Лев Николаевич
Толстой
Полное собрание сочинений. Том 65
Письма
1890—1891 (январь — июнь)
Государственное издательство
художественной литературы
Москва — 1953
Электронное издание осуществлено
в рамках краудсорсингового проекта
Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Подготовлено на основе электронной копии 65-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной
Российской государственной библиотекой
Электронное издание
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого
доступно на портале
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
Предисловие к электронному изданию
Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая
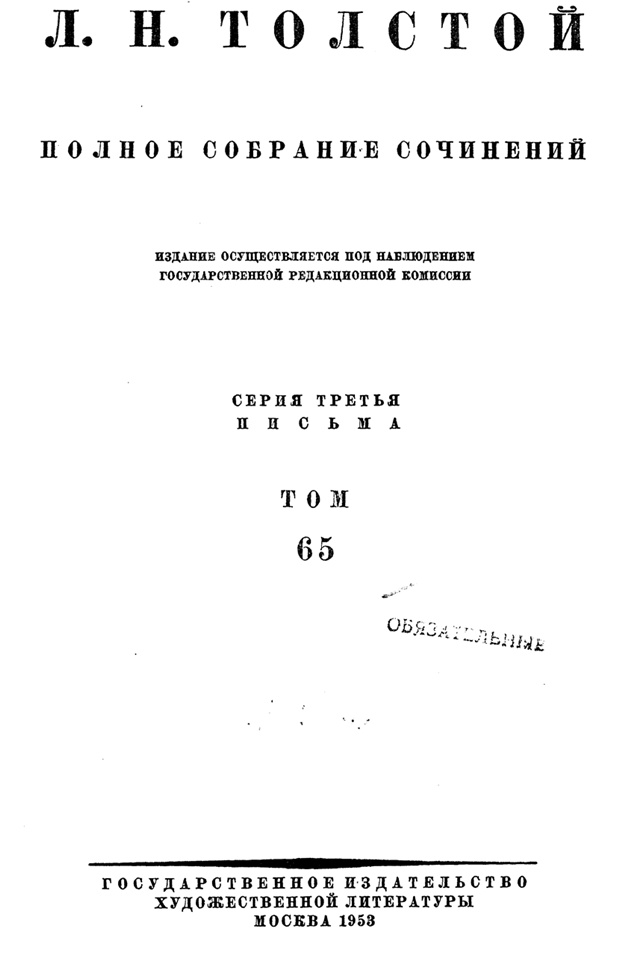
Перепечатка разрешается безвозмездно.
ПИСЬМА
1890—1891 (январь — июнь)
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ
В. А. ВЕРХОВСКОЙ
и В. С. МИШИНА
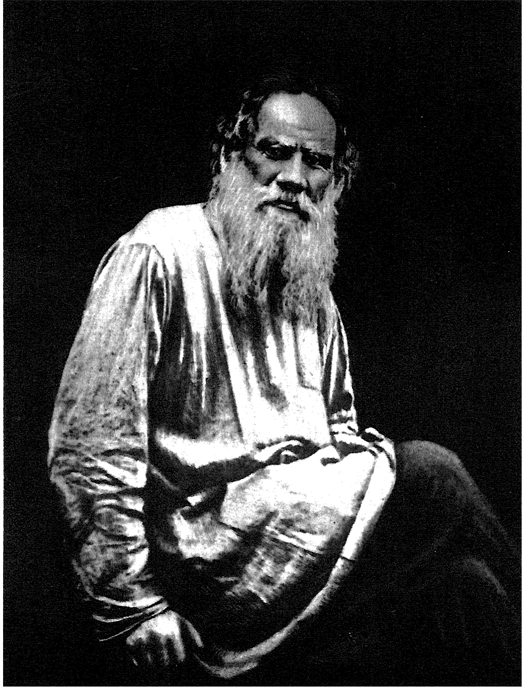
Л. Н. ТОЛСТОЙ
1890 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОМУ И ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОМУ ТОМАМ
I
В 65 и 66 томах Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого публикуются его письма за 1890—1893 гг.
Это был период, когда Толстой, завершив работу над «Крейцеровой сонатой» и в основном над «Плодами просвещения», приступил к созданию «Воскресения». В эти же годы он усиленно трудился над произведениями публицистического характера, среди которых надо особенно отметить статьи о голоде.
В публикуемых здесь письмах многократно и с большой силой звучит голос Толстого-обличителя.
Толстой с ненавистью и гневом говорит о преступлениях царского самодержавия, о произволе чиновников и паразитизме эксплуататоров. Он разоблачает гнусное лицемерие властей по отношению к трудовому народу: «И они всё его хотят опекать и научать. Взять человека, напоить пьяным, обобрать, да еще связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до чего дойдет, предоставленный самому себе — и, пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете»[1].
Толстой возмущается изуверской жестокостью царского правосудия, грубостью насильственных мер, применяемых им дляV VI подавления революционного движения: «Вы, верно, слышали про страшную историю повешения в Пензе двух крестьян из 7, приговоренных к этому за то, что они убили управляющего, убившего одного из них... Об ужасах, совершаемых над политическими, и говорить нечего»[2].
С безжалостным сарказмом говорит Толстой о церковниках, насаждающих суеверия в народе, о тех «просвещенных» представителях господствующих классов, которым выгодно поддерживать ложь церкви: «Враг истины есть невежество суеверия; выросшие же на этом невежестве церкви, и наша, и католическая, и протестантская иерархия, суть грибы, растущие на этом навозе. Покуда будет невежество, будут иерархии, попы, папы, мощи, причастия, семинарии, академии, догматы, троицы и воскресения... До тех пор, пока есть почва для этих суеверий и невежества, не только среди неученых, но и среди ученых классов (пример — спиритизм) будут и эти наросты...»[3] «Все эти архиереи, мандриты и т. п. в глубине души, когда они раздеваются и ложатся спать, знают, что всё, что они проповедуют, всю эту троицу и таинства, и церкви, что всё это ужасный вздор, в который нельзя верить и с которым нельзя жить и тем более умирать»[4].
Очевидна внутренняя связь цитируемых писем Толстого с наиболее сильными обличительными страницами «Воскресения». Письма эти дают возможность судить о процессе нарастания в сознании художника того горячего, страстного протеста против буржуазно-помещичьей монархии и всех ее устоев, который начался давно и несколько лет спустя получил гениальное художественное воплощение в его романе.
Вместе с тем в публикуемых здесь письмах часто проявляются кричащие противоречия мировоззрения Толстого.
В. И. Ленин указывал, что учение Толстого следует рассматривать «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»[5]. «...Противоречия во взглядах и ученияхVI VII Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века»[6].
Выражая идеи и настроения, сложившиеся у миллионов русских крестьян в эпоху подготовки буржуазной революции в России, Толстой гневно бичевал господствующие классы, восставал против социального зла, но глубоко заблуждался в решении вопроса о путях преодоления этого зла. И эти заблуждения отразились во многих его письмах.
Читая письма Толстого, относящиеся к последним десятилетиям его жизни, надо иметь в виду, что соотношение «разума» и «предрассудка» в них не совсем такое, как в его художественных произведениях. Разумеется, ложная религиозно-философская доктрина Толстого наложила существенный отпечаток и на его художественное творчество. Но в романах и повестях Толстого, как правило, происходит победа трезвого реализма художника над иллюзиями и предрассудками его доктрины; правда жизни, воплощенная в искусстве, оказывается убедительнее и сильнее, чем проповедь новой, очищенной религии. Иное видим мы в некоторых статьях Толстого, а тем более во многих его письмах. Здесь острая критика буржуазнопомещичьего общества и государства часто сопровождается настойчивыми призывами к непротивлению злу, к нравственному самоусовершенствованию как наилучшему якобы способу разрешения всех назревших социальных проблем. Порою в письмах Толстого, особенно в тех, которые написаны в ответ на вопросы русских и иностранных толстовцев, на первый план выступает именно «предрассудок», непротивленчество. Об этом свидетельствует и материал рассматриваемых томов. Немало страниц в этих томах заполнено наивнейшими рассуждениями на тему
о спасительности целомудрия, о нравственной пользе вегетарианства и т. п.; во многих письмах пространно разрабатываются утопические рецепты спасения от социальных зол на основе «закона Христа».
В. И. Ленин писал: «Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого»[7]. Толстой отражал накипевшую ненависть и гнев народных масс против угнетателей, VII
VIII и это давало ему возможность подняться в художественных произведениях до небывалых, никем до него не достигнутых высот реалистического изображения жизни. Но Толстой отражал и «отчаяние» крестьянских масс, их политическую невоспитанность и слабость, и это в известной мере сковывало его как художника; сковывало не только потому, что предрассудки входили в образную ткань его произведений, но и потому, что эти предрассудки приводили его порою к неверным взглядам на собственное творчество,
В письме к П. И. Бирюкову от 17 января 1890 г. Толстой говорит о своей работе над комедией «Плоды просвещения»: «По случаю игры комедии я всё поправлял ее и даже после исправлял ее. Очень низкое и увлекающее занятие...» Даже свою работу над «Воскресением» он характеризует как «низкое ремесленное занятие», к которому «полезно относиться презрительно»[8].
Мы видим здесь яркое свидетельство той внутренней борьбы, которая происходила в Толстом. Заложенная в нем могучая творческая сила властно влекла его к работе над художественными произведениями, но ложная христианская мораль побуждала его смотреть на писательскую деятельность, — на ту именно деятельность, которая принесла ему бессмертие! — как на «низкое» занятие. Религиозные воззрения Толстого таким образом вступали в острейший конфликт с природой его художественного творчества. И то, что Толстой, наперекор собственным неверным взглядам, не отказывался от литературной работы, не прекращал ее, знаменовало торжество творческого разума художника над его заблуждениями.
Борьба противоречий в сознании Толстого особенно ясно видна в его письмах, адресованных приверженцам его доктрины.
«Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — писал Ленин, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения»[9].VIII
IX В последние десятилетия жизни Толстого вокруг него начала формироваться своего рода секта. В эту секту входили и кающиеся дворяне, и «опростившиеся» интеллигенты, и отдельные представители крестьянства. Эти «мизерные» толстовцы по сути дела были далеки от Толстого, как небо от земли. Они не могли и не хотели понять ни величия писательского гения Толстого, ни обличительной, мятежной сущности его реалистического творчества.
Отношение Толстого к этим людям, называвшим себя его «единомышленниками», было весьма сложным. Он нередко оказывал им чрезмерное внимание и доверие, но вместе с тем он много раз вступал с ними в споры. Ему претило сектантское высокомерие толстовцев, их фанатизм, их попытки замкнуться и обособиться в узкую касту «избранных». В противовес настойчивым попыткам толстовцев порвать все связи с обществом, создать для себя особые условия жизни, удалиться из городов и жить «по закону Христа» в изолированных колониях, Толстой утверждал: «Внешние условия жизни не только не надо искусственно устраивать, но надо всячески стараться избегать внешнего устройства, потому что ничто так не убивает внутреннее, как внешнее, и ничто так не развивает лицемерие (самого страшного врага истины), лицемерие, гордость, неуважение к людям, как приписывание значения внешним формам жизни»[10]. Предложение одного из толстовцев, И. Файнермана, созвать в Ясной Поляне съезд «единомышленников», чтобы обсудить их дальнейшие планы, встретило со стороны Толстого резкий отпор. Толстой решительно осудил попытки «искания единения с людьми, — с известными, избранными людьми». Он писал: «Где та печать, по которой мы узнаем наших? Не грех ли выделять себя и других от остальных? И не есть ли это единение с десятками — разъединение с тысячами и миллионами?»[11]
Эти строки свидетельствуют, как громадно было расстояние между великим художником, отразившим настроения и чаяния миллионных крестьянских масс, и горсткой оторванных от народа сектантов, цеплявшихся за букву толстовской догмы.
II
Центральным событием жизни Толстого в рассматриваемый период была его большая общественная деятельность по оказанию помощи крестьянам, пострадавшим от голода.
Голод, охвативший значительную часть территории России в 1891—1892 гг., не был следствием одной только засухи. Основная причина его лежала глубже. В пореформенной России земледелие было «в руках разоренных, обнищалых крестьян, которые вели устарелое, первобытное хозяйство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещиков в 1861 году»[12]. Неурожайные годы ускорили и усилили то массовое разорение крестьянских хозяйств, которое совершалось на протяжении предшествовавших тридцати лет. Голод 1891—1892 гг. обнаружил, до какого чудовищного, нечеловеческого обнищания дошли широкие массы тружеников русской деревни, отягощенной пережитками крепостничества, отданной на поток и разграбление бурно развивающемуся капитализму.
В голодные годы с особенной силой проявилась та «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев», старой России», которая «отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя»[13]. Те проблемы, которые глубоко волновали Толстого в течение многих лет, в связи с голодом встали перед ним с новой, небывалой, мучительной остротой.
Толстой не мог оставаться безучастным к народному бедствию. Он не мог и не хотел ограничиться обычными для людей его социального круга формами помощи: сбором пожертвований, раздачей милостыни. В течение двух лет он отдавал все свои силы практической работе по спасению голодающих. Поселившись с группой сотрудников в одном из районов, пострадавших от неурожая (в деревне Бегичевке Рязанской губернии), всемирно прославленный 63-летний писатель лично занялся массовым устройством столовых, где неимущие крестьяне получали бесплатное питание. Толстой обходил крестьянские дворы, проводил перепись особо нуждающихся, ездил по деревням, наблюдая за работой столовых, закупал продукты, распределялX XI продовольствие и дрова по столовым, вникая во все хозяйственные мелочи, связанные с организацией помощи голодающим.
Письма Толстого, помещенные в 66 томе, ярко характеризуют его самоотверженную, кипучую практическую деятельность по оказанию помощи пострадавшим от голода. И они отражают в то же время ту острейшую внутреннюю борьбу, которая происходила в сознании писателя.
Толстой прекрасно понимал, что голод, вспыхнувший в 1891 г., не представлял собою кратковременного, преходящего бедствия, а явился обострением тех бедствий, от которых народ страдал уже давно. Толстой писал Н. С. Лескову 4 июля 1891 г., что голод — это «больший, чем обыкновенно, недостаток хлеба у тех людей, которым он нужен, хотя он есть в изобилии у тех, которым он не нужен»[14].
Спасая пострадавших от голода крестьян, Толстой с болью сознавал, что он в состоянии лишь немного уменьшить размеры народного горя, но не в силах уничтожить это горе и вызывающие его причины. Он писал художнику H. Н. Ге и его сыну: «Чувствую потребность yчacтвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать»[15]. Письма Толстого к разным лицам, отправленные из Бегичевки, свидетельствуют, что помощь голодающим доставляла ему немалое моральное удовлетворение: он испытывал «радости общения с людьми»[16], он чувствовал, что труд ради спасения пострадавших «радостен и увлекает». Но он остро ощущал тяжесть своего положения, заключавшуюся в «внутреннем постоянном сознании, что это не то, и сознании стыда перед самим собою»[17]. Его терзала неотвязная мысль о том, что наряду с голодными, которым он оказывает действенную помощь, есть и другие голодные, которых он не может спасти. «Нельзя представить себе, до какой степени тяжело быть в положении распорядителя, раздавателя и по своему выбору давать или не давать. А всё дело в этом. Очень тяжело, но уйти нельзя»[18].XI
XII В одном из писем Толстой вспоминает старинную легенду
о нищем, который упрекнул помогавшего ему монаха: «То, что ты делаешь, ты делаешь не для меня, ты не любишь меня, а только мной спастись хочешь». Приводя эти слова, Толстой добавляет: «Вот такое же я чувствую отношение к нам народа и чувствую, что так и должно быть, что и мы им спастись хотим, а не его просто любим — или мало любим»[19].
Эти строки с поразительной силой обнажают душевную драму Толстого, который в последние десятилетия своей жизни все сильнее тяготился своей принадлежностью к имущим классам. Разумеется, великий художник был глубоко несправедлив к себе, когда укорял себя в неискренности, в недостаточной любви к народу. Вместе с тем здесь сказалось стремление «дойти до корня» в поисках причин бедствий народных масс, сильный и смелый протест Толстого против всех видов эксплуатации человека человеком. Оказывая помощь голодающим, сознавая, что такая помощь необходима и полезна, Толстой вместе с тем ясно видел несостоятельность попыток устранить общественное зло усилиями самоотверженных и добрых гуманистов-одиночек. Отсюда и проистекало и нарастало в нем обостренное недовольство собой, нашедшее выражение в цитированном письме. (Как известно, слова «ты мною спастись хочешь» Толстой впоследствии повторил в «Воскресении»: он вложил их в уста Катюши Масловой, осуждающей барское великодушие князя Нехлюдова.)
Занимаясь помощью голодающим крестьянам, Толстой с особой, мучительной силой увидел всю глубину пропасти между «верхами» и «низами», эксплуататорами и эксплуатируемыми. Он писал С. А. Толстой из Бегичевки 10 сентября 1892 г.: «Здесь так все притерпелись к бедствию, что идет везде непрестанный пир во время чумы. У Нечаевых были имянины, на которых была Самарина, и обед с чудесами французского повара, за которым сидят 21/2 часа, у Самариных роскошь, у Раевских тоже — охота, веселье. А народ мрет... Контраст между роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих всё увеличивается, и так продолжаться не может»[20].
Ощущение этого контраста становилось для Толстого все более нестерпимым. «Как ни знаешь твердо весь грех нашегоXII XIII сословия перед народом, эти года и это отношение, близкое с беднотой народа, яснее и неизгладимее показали мне всю величину и мерзость этого греха»[21]. С нараставшей настойчивостью возникала в сознании художника мысль о неизбежности и близости больших социальных перемен. «Всё больше и больше страдаю от лжи этой жизни и верю в ее изменение»[22]. «Мне всё кажется, что так продолжаться не может и что должен произойти переворот»[23].
Свои гневные и горькие мысли, вызванные зрелищем народного бедствия, Толстой изложил в серии статей о голоде. Часть этих статей, вследствие препятствий, чинившихся царской цензурой, была первоначально опубликована не в России, а за границей.
Статьи Толстого о голоде принадлежат к числу его наиболее смелых, острых, волнующих публицистических работ. Противоречия мировоззрения писателя сказались, конечно, и в них: они содержали наивные призывы к представителям господствующих классов покаяться, осознать свою вину перед народом и прийти на помощь голодающему крестьянству во имя христианской любви к ближнему. Но сила и значение этих статей заключались, конечно, не в утопических, мечтательных воздыханиях, не в апелляции к милосердию благотворителей, а в резкой, поистине беспощадной критике эксплуататоров. Толстой доходил в своей критике до самых основ буржуазного строя; он с присущей ему неумолимой прямотой вскрывал коренные, назревшие социальные противоречия. Он писал:
«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты.
Разве может быть не голоден народ, который в тех условиях, в которых он живет, то есть при тех податях, при том малоземельи, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю ту страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры богатых людей...
Народ всегда держится нами впроголодь. Это наше средство, чтобы заставить его на нас работать. Нынешний же год проголодь эта оказалась слишком велика»[24].XIII
XIV Статьи Толстого о голоде произвели колоссальное впечатление на всех передовых мыслящих людей России. Как известно,
В. И. Ленин в статье «Признаки банкротства», опубликованной в 1902 г., сослался на статьи о голоде Толстого: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности. В эти моменты хищник-государство пробовало парадировать перед населением в светлой роли заботливого кормильца им же обобранного народа. С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой. В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»[25].
Деятельность Толстого по оказанию помощи голодающим, и особенно его выступления в печати, раскрывшие перед широкими читательскими массами истинные размеры и причины народного бедствия, крайне обострили раздражение против него со стороны правящей верхушки. Министр внутренних дел Дурново в докладе на имя Александра III писал по поводу письма Толстого о голоде, что оно «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям»[26]. Из страха перед русским и международным общественным мнением царское правительство не решилось подвергнуть прославленного художника прямым репрессиям; проекты, возникшие было у некоторых высокопоставленных мракобесов, — арестовать Толстого или заточить его в монастырь — так и не были осуществлены. Но реакционные чиновники, журналисты, цензоры, попы, жандармы надолго создали вокруг Толстого гнетущую атмосферу слежки и травли.
Однако ни нападки официальной печати, ни нависшая угроза ареста не смутили Толстого. Он не считал нужным угождать властям или итти в чем бы то ни было навстречу их требованиям. В письме к С. А. Толстой от 28 февраля 1892 г. он гордоXIV XV утверждал: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного и честного во всём мире»[27].
Смелые выступления Толстого по поводу голода и его мужественная позиция перед лицом грозивших ему репрессий еще больше увеличили внимание и симпатии к нему со стороны передовой общественности в России и во всем мире. Этот яркий эпизод биографии Толстого остался в памяти прогрессивного человечества.
Не так давно американский романист, активный борец за мир Альберт Мальц, в речи на тему «Писатель — совесть народа» напомнил о литературной деятельности Толстого в связи с голодом 1891 г. и о его конфликте с царским самодержавием. Он увидел в выступлениях Толстого выдающийся образец писательской правдивости и бесстрашия, поучительный для современных западных деятелей культуры. Он призвал интеллигенцию США выступать против империалистической реакции, не боясь правительственного террора[28].
Так пример Толстого-обличителя вдохновляет передовых зарубежных писателей наших дней.
III
В публикуемых томах немало места занимают письма Толстого к иностранным корреспондентам. В письмах его к разным адресатам нередко затрагиваются вопросы зарубежной литературной и общественной жизни.
Еще во второй половине 80-х годов Толстой достиг громадной, всемирной славы. Его произведения были переведены на многие иностранные языки. Его мировое значение как художника стало бесспорным, общепризнанным. Писатели и критики разныхXV XVI стран, изучая произведения Толстого, приходили к выводам о превосходстве русского реализма над западным. Ромэн Роллан, вспоминая о том впечатлении, которое производило творчество Толстого на его зарубежных современников, утверждает: «Никогда еще подобный голос не звучал в Европе»[29].
Многогранная, сложная, противоречивая личность Толстого давала повод ко многим спорам. Толстой стал за рубежом предметом обостренной идейной борьбы. Эта идейная борьба достигла особой напряженности на грани XIX и XX столетий — после выхода «Воскресения». Но уже в течение 90-х годов в зарубежных странах наметились два лагеря в восприятии и оценке Толстого. Для представителей прогрессивного искусства и мысли Толстой имел громадное значение как гениальный художник-реалист и вместе с тем как критик и обличитель капиталистического строя. В противовес этому для многих литераторов буржуазно-либерального, а подчас и консервативного направления Толстой представлял интерес прежде всего как проповедник христианского милосердия и новой, очищенной религии. В печати Западной Европы и Америки делалось много попыток использовать слабые стороны учения Толстого в целях охраны устоев буржуазного общества.
Толстовские идеи нравственного самоусовершенствования и «непротивления злу» быстро нашли отклик в различных иностранных религиозных и полурелигиозных объединениях, сектах и группах. За границей обнаружилось немало «мизерных» толстовцев, которые, игнорируя социальную проблематику реализма Толстого, охотно пропагандировали его религиозноутопическую доктрину. Эти лица вступали в переписку с Толстым, объявляли себя его сторонниками, пускались в пространные и путаные морально-казуистические рассуждения, ожидая от него ответов и разъяснений. Ложные религиозные взгляды Толстого нередко побуждали его уделять внимание иностранным реформаторам и сектантам, разного рода квакерам и шекерам. В переписке с зарубежными «единомышленниками» и «последователями» проявлялись наиболее слабые стороны мировоззрения Толстого.
Непрерывно возраставшая международная слава Толстого привлекала к нему внимание и литературоведов иXVI XVII переводчиков. Они писали Толстому письма, завязывали знакомство с ним, желая получить от него рукописи для перевода или ответы на интересовавшие их вопросы. Но в большинстве своем это были буржуазные литературные пигмеи, неспособные понять и оценить величие толстовского гения. Они не могли и не хотели видеть, в чем заключалась его подлинная сила, и в своих писаниях грубо фальсифицировали его облик. Например, авторы французских монографий, вышедших в 1893 г., Ж. Дюма («Толстой и философия любви») и Ф. Шредер («Толстовство») старательно замалчивали толстовскую критику господствующих социальных отношений: они пытались истолковать произведения Толстого в либерально-примирительном духе. Среди переводчиков Толстого было немало людей, внутренне чуждых ему, пытавшихся примазаться к популярному имени русского писателя в целях наживы или карьеры. Таков был, например, английский филолог Э. Диллон, неоднократно переводивший его произведения в 90-х годах. В книге «Граф Лев Толстой», опубликованной в 1934 г., он представил Толстого в искаженном свете и воспользовался своими воспоминаниями о нем в целях беззастенчивой саморекламы.
Но в то же время лучшие, наиболее честные и передовые писатели мира с величайшим вниманием прислушивались к обличающему голосу Толстого, учились у него как у правдивого и смелого художника-реалиста.
Ярким примером благотворного воздействия Толстого на прогрессивные силы мировой литературы является писательская судьба Ромэна Роллана. Письмо Толстого к юному Ромэну Роллану от 3 октября 1887 г.[30] в ответ на его вопросы оказало глубокое воздействие на идейное и творческое формирование французского писателя. Письмо это, несмотря на присущий ему налет абстрактно-гуманистических идей, содержало острую критику буржуазных отношений и буржуазной культуры. Эта критика произвела сильное впечатление на Роллана: Толстой был первым, кто духовно вооружил его против реакционной эстетики декаданса и заронил в его сознание мысль о долге художника по отношению к народу. Влияние критического реализма Толстого заметно сказалось в последующей антибуржуазной, антимилитаристской направленностиXVII XVIII творчества Роллана. Известно, что острая постановка больших социальных вопросов в творчестве Толстого оказала серьезное воздействие на идейно-творческое развитие видных зарубежных писателей, выступавших против империализма, например на Б. Шоу, А. Франса, Т. Драйзера.
Толстой вдохновлял своим влиянием демократические силы мировой литературы и в то же время сам проявлял живой интерес к литературе зарубежных стран. Его письма позволяют судить о широте его художественных интересов: в них часто содержатся критические замечания и оценки, относящиеся к писателям различных стран и эпох.
Разумеется, в этих оценках немало субъективного, спорного. Толстой иногда слишком снисходительно судил о книгах, которые не выдержали проверки временем и забыты в наши дни. Но важно отметить, что Толстой наиболее высоко ценил тех зарубежных писателей, которые своей творческой деятельностью служили народу, выступали в защиту трудящихся и обездоленных. Среди книг, произведших на него «огромное» впечатление, он называет «Исповедь» и «Эмиль» Руссо, «Давид Копперфильд» Диккенса, «Отверженные» Гюго[31]. Толстой оценил по достоинству творчество выдающегося американского поэта-демократа Уота Уитмэна, которого он считал «весьма оригинальным и смелым»[32].
Горячая привязанность к демократическим и реалистическим традициям мировой литературы сочеталась у Толстого с резко критическим отношением к тем из его западных современников, в произведениях которых он видел следы модернистских влияний, отступления от жизненной правды. Так, например, его суровая и в то же время не вполне справедливая оценка Ибсена объяснялась тем, что ему претила искусственность, надуманность характеров и ситуаций в некоторых пьесах Ибсена, в частности в драматической поэме «Бранд»[33].
В нескольких письмах, содержащихся в 66 томе, Толстой упоминает о своей работе над статьей «Неделание», представлявшей отклик на два выступления французских писателей — на речь Золя «Юношеству» и на письмо А. Дюма в редакциюXVIII XIX газеты «Gaulois». Эта статья Толстого глубоко ошибочна по своей основной тенденции, поскольку Толстой в ней, по его собственным словам, хотел провести мысль о том, что «только усвоение людьми христианского мировоззрения спасет человечество»[34]. Толстой, разумеется, был неправ, когда солидаризировался с христианско-мистическими рассуждениями Дюма. Но его полемика с Золя, содержавшаяся в этой статье, заключала в себе и существенное зерно истины. Та положительная программа, которую предложил Золя юношеству в своей речи, сводилась к реформистской проповеди «труда — освободителя и примирителя». Возражая Золя, Толстой писал: «Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал... фабрикант — из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?» Полемизируя с Золя, Толстой осудил тех, кто «под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок»[35]. В статье «Неделание», наряду с ложными религиозно-нравственными воззрениями Толстого, наряду с реакционной проповедью пассивности, проявилась и сильная сторона его мировоззрения: непримиримая ненависть к буржуазному обществу.
Эта ненависть многократно, многообразно сказывается и в письмах Толстого. В отдельных, иногда сделанных мимоходом, замечаниях Толстого по международным общественно-политическим вопросам чувствуется тот бурный протест против всякого классового господства, который неоднократно побуждал Толстого обличать угнетателей и эксплуататоров не только русских, но и иностранных. В одном из писем Толстой с глубоким негодованием говорит о расовой дискриминации в Соединенных Штатах Америки, обнажая лицемерную сущность буржуазной лжедемократии: «Американцы очень хорошо знают, что, изгоняя китайцев, они отступают от основных принципов равенства и свободы, которые исповедуют; но дело касается их шкуры, и они топчут под ноги принципы, исповедуемые ими на словах»[36].XIX
XX «...Кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм»[37]. Чем больше обострялся конфликт Толстого с царским самодержавием, со всей правящей верхушкой царской России, тем с большей силой, настойчивостью, последовательностью выступал он и против международного империализма. Это показала его публицистика 90-х годов.
IV
Многие письма Толстого содержат его высказывания о русских писателях, советы и суждения по конкретным вопросам литературного мастерства. Эта сторона переписки Толстого представляет исключительный интерес.
Те письма Толстого, где отражено его отношение к различным произведениям русской литературы, помогают уяснить характер его преемственных связей с писателями предшествовавших ему поколений.
Для изучения истоков толстовского реализма исключительно важен тот список — «Сочинения, произведшие впечатление», — который дан в одном из его писем за 1891 г.[38]
Толстой указывает, что еще в детском возрасте «огромное» впечатление на него произвели «русские былины: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович. Народные сказки». Среди стихов Пушкина, прочитанных в этом же возрасте, он особо отмечает стихотворение «Наполеон».
С высказыванием Толстого о былинах стоит сопоставить запись, сделанную им в Дневнике 14 июня 1856 г.: «Начинаю любить эпически легендарный характер»[39]. Произведения русского народного творчества, и в особенности произведения народного героического эпоса, оставили глубочайший след в художническом сознании Толстого и своеобразно преломились в эпической героике «Войны и мира». Важно отметить, с другой стороны, что трактовка Наполеона в «Войне и мире» тесно связана с пушкинской традицией. Правда, именно Толстой — впервые в мировой литературе — до конца разоблачил и разрушил «наполеоновскую легенду», представив французского императора-завоевателя в резко критическом освещении, без того привычногоXX XXI ореола величия, которым он был окружен в произведениях западноевропейских писателей. Вслед за Пушкиным Толстой показал поражение Наполеона как результат справедливого возмездия деспоту и агрессору со стороны русского народа. Та «длань народной Немезиды», о которой писал Пушкин в своем стихотворении, в реалистически-новаторском истолковании Толстого превратилась в «дубину народной войны».
В числе тех произведений, которые произвели на него «огромное» или «большое» впечатление в юные годы, «с 14-ти лет до 20-ти», Толстой называет «Евгения Онегина» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова и особенно включенную в лермонтовский роман повесть «Тамань», ряд произведений Гоголя («Шинель», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Невский проспект», «Вий», «Мертвые души»). Он высоко ценил также «Записки охотника» Тургенева и повесть Григоровича «Антон Горемыка».
Этот перечень говорит о глубокой, органической близости Толстого к традициям русского критического реализма первой половины XIX в.
В высшей степени примечательно письмо Толстого к Д. В. Григоровичу от 27 октября 1893 г. Поздравляя Григоровича с 50-летним юбилеем его литературной деятельности, Толстой вспоминает о том сильном впечатлении, которое произвели на него в юности «Записки охотника» Тургенева и первые повести Григоровича. По словам Толстого, повесть «Антон-Горемыка» при первом чтении вызвала в нем «умиление и восторг», явилась для него «радостным открытием того, что русского мужика... можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»[40].
Это письмо свидетельствует не только о личной симпатии Толстого к Григоровичу как человеку и художнику. Оно является одним из доказательств тесных внутренних связей между творчеством Толстого и передовой русской литературой 40-х годов, выступавшей под знаменем реалистической правдивости и пристального, сочувственного внимания к простому человеку,XXI XXII мужику. Толстой, в творчестве которого, еще начиная с ранних произведений, проявилось замечательное умение «переселяться в душу поселянина»[41], явился в этом отношении продолжателем глубоко прогрессивных, демократических традиций своих ближайших литературных предшественников. Вместе с тем понятно, что Толстой, который отразил не только страдания и нужду народных масс, но и их способность к патриотическому подвигу, их решающую роль в судьбах родины и который в своих последних произведениях сумел передать накопившиеся в массах стихийные чувства протеста и негодования, внес в разработку демократической темы нечто качественно новое, по сравнению со своими предшественниками и современниками.
Не все конкретные оценки отдельных литературных явлений, содержащиеся в письмах Толстого, могут быть безоговорочно приняты современным читателем. Подчас в этих оценках сказываются и слабые стороны мировоззрения Толстого; подчас замечания, сделанные в письмах, не выражают полностью отношения Толстого к тому или иному художнику. Критического подхода требует, например, то высказывание о Достоевском, которое содержится в письме Толстого к Страхову от 3 сентября 1892 г. Толстой говорит здесь, что многие читатели в героях Достоевского «узнают себя, свою душу»[42]. Известно, что сам Толстой в беседе с Горьким иначе и более критически сказал о Достоевском: «Не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен»[43].
В письмах Толстого к разным лицам можно найти в высшей степени важные и характерные его высказывания по вопросу
о задачах литературы, о природе художественного творчества.
Толстой резко осуждал всякие попытки сглаживания жизненных противоречий, приукрашивания действительности в литературных произведениях. Н. С. Лескову он писал 10 декабря 1893 г.: «Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел»[44].
Остро реагировал Толстой на всякую неискренность, фальшь в работе писателя. Так в письме к Б. Н. Чичерину ТолстойXXII XXIII разбирает его очерк «Из моих воспоминаний». В этом очерке Чичерин изобразил в явно идеализированном духе жизнь просвещенного помещика 30-х годов Н. И. Кривцова. Толстой отмечает литературные достоинства очерка, но со свойственной ему прямотой делает отрезвляющее критическое замечание: «Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное: отношения к крепостным. Невольно возникает вопрос: как, чем поддерживалась вся эта утонченность жизни? Была ли такая же нравственная тонкость — чуткость в отношениях с крепостными?»[45]
В письме к сыну, Льву Львовичу, от 30 ноября 1890 г. Толстой резко критикует его неудачную повесть «Любовь». Содержание повести составляли переживания богатого молодого человека, привыкшего жить праздной светской жизнью и испытывающего внезапное раскаяние после того, как его любовница умирает от алкоголизма. Повесть эта, претендовавшая на постановку каких-то нравственных вопросов и в то же время чрезвычайно поверхностная и пустая, естественно, не понравилась Толстому. Он пишет сыну: «Герой неинтересен, несимпатичен, а автор относится к нему с симпатией... Несимпатичен герой тем, что барчук, и не видно, во имя чего он старается над собой, как будто только для себя. И оттого и его негодование слабо и не захватывает читателя»[46].
В другом письме к Льву Львовичу Толстой дает советы, как работать над статьей о положении голодающих крестьян. Толстой предостерегает против сентиментальности, «ахов и охов», против всего, что бьет на эффект. Он рекомендует «внимательно и спокойно изучать положение народа», правдиво и всесторонне описывать жизнь крестьянских семей. «Такое описание тронет и подействует, а не ахи и охи»[47].
В письме к литератору А. Жиркевичу Толстой откровенно и резко говорит о вредности легковесных литературных упражнений, лишенных серьезного жизненного содержания. Он утверждает: «без слов нет мысли». Именно поэтому художественное слово требует от писателя большой искренности, большого чувства ответственности, ибо «несерьезно обращаться с мысльюXXIII XXIV есть грех большой». И Толстой формулирует следующее категорическое требование, обязательное для каждого работника литературы: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя»[48].
Все содержащиеся в письмах суждения и замечания Толстого об искусстве и литературе дают ценный материал для характеристики его эстетических взглядов. В них проявляется реалистическая последовательность и не знающая границ требовательность к писательскому труду гениального художника, «великого писателя русской земли».
Т. Мотылева
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
В настоящий том писем Л. Н. Толстого за 1890 г. и первую половину 1891 г. входят тексты 249 писем. Из них 105 печатаются впервые. 159 писем печатаются по автографам, 1 письмо — по фотокопии, 81 — по копиям и 8 — по печатным текстам.
Тексты двадцати девяти писем к С. А. Толстой опубликованы в т. 84, и пятидесяти писем к В. Г. Черткову опубликованы в т. 87.
Публикация писем по автографам в примечаниях не оговаривается; публикация же по другим источникам (копиям, печатным текстам и т. п.) каждый раз оговаривается.
При воспроизведении текста писем Л. Н. Толстого соблюдаются следующие правила.
Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, то есть в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся (напр., «тетенька» и «тетинька»).
Ударения в «что» и других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся и оговариваются в сноске.
Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», раскрываются, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый».
Слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: т[ак] к[ак]; б. — б[ыл].
Не дополняются общепринятые сокращения: и т. п., и пр., и др.
Описки (пропуски и перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках,XXV XXVI кроме тех случаев, когда есть сомнение, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.
На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.
На месте исключенных редакцией слов ставятся двойные прямые скобки [[10]], где цифры обозначают количество пропущенных слов.
В случаях написания слов или отдельных букв поверх написанного или над написанным (и зачеркнутым) обычно воспроизводятся вторые написания без оговорок, и лишь в исключительных случаях делаются оговорки в сноске.
Из зачеркнутого воспроизводится в сноске лишь то, что необходимо для понимания текста, причем знак сноски ставится при слове, после которого стоит зачеркнутое.
Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках.
Подчеркнутое воспроизводится курсивом.
В отношении пунктуации приняты следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия, кроме случаев явно ошибочного написания; 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки (кроме восклицательного) в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях; 4) при воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит их у Толстого.
Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие абзацы в тех местах, где начинается разительно отличный по теме и характеру от предыдущего текст, причем каждый раз делается оговорка в сноске: Абзац редактора. Знак сноски ставится перед первым словом сделанного редактором абзаца. Письма, публикуемые впервые, или те, которые печатались лишь в отрывках или в переводах, обозначены звездочкой.
Все даты по 31 декабря 1917 г. приводятся только по старому стилю, а с января 1918 г. только по новому стилю.
В примечаниях приняты условные сокращения:XXVI
XXVII AЧ — Архив В. Г. Черткова.
Б, III — Бирюков П. И., «Л. Н. Толстой. Биография», т. III, Берлин, 1921.
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого Академии наук СССР.
ДСАТ — «Дневники Софьи Андреевны Толстой». Редакция C. Л. Толстого, ч. I — М. 1928, ч. II — М. 1929.
«Летописи», 2, 12 — «Государственный Литературный музей. Летописи. Книга вторая. Л. Н. Толстой», М. 1938; «Государственный Литературный музей. Летописи. Книга двенадцатая. Л. Н. Толстой. Том II», М. 1948.
ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым», изд. Общества Толстовского музея, СПб. 1914.
ПТС, I; ПТС, II — «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко», изд. «Книга», I — 1910, II — 1911.
ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под редакцией А. Е. Грузинского», изд. «Окто», М. 1912.
«Спелые колосья» — «Л. Н. Толстой. Спелые колосья. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого», изд. М. К. Элпидина, Carouge. Genève, 1894—1896, вып. 1 — 1894; вып. 2 — 1895; вып. 3 — 1895; вып. 4 — 1896.
Список В. Г. Черткова — Список адресатов Толстого рукой В. Г. Черткова (AЧ. По данным М. Л. Толстой).
Список И. И. Горбунова-Посадова — Список адресатов Толстого рукой И. И. Горбунова-Посадова (AЧ. По данным М. Л. Толстой).
Список М. Л. Толстой — Записи М. Л. Толстой адресатов Л. Н. Толстого (AЧ).
ТГ — «Л. Н. Толстой и H. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930.
ПИСЬМА
1890—1891 (январь — июнь)
1890
1. В. Г. Черткову от 4—8? января 1890 г.
* 2. А. П. Куприянову.
1890 г. Января 15. Я. П.
А[лександр] П[етрович]. Получать такие письма, как ваше, составляет одну из наибольших радостей моей жизни. Спешу ответить на ваши вопросы, дельная постановка которых показывает мне серьезность вашего отношения к делу. 1) Посылаю вам при этом те книги, которые у меня есть, и список тех, которых нет, но можно приобрести.1 Книги или скорее брошюры с доводами религиозными против употребления вина печатаются одна в Казани,2 другая в Москве.3 Прилагаю вам адрес г-на Соловьева, одного из самых деятельных членов наших в Казани.4 Если вам будет что нужно, обратитесь к нему, он окажет вам всякое содействие. 2) Об истории пьянства вы найдете сведения и в тех книгах, которые посылаю, и еще более подробные в книге д-ра Алексеева, которого надеюсь видеть в нынешнем году в Москве.5 3) Общество наше составилось так. Д-р А[лексеев], из Америки, где он видел поразительные результаты для блага народа, достигнутые обществами трезвости,6 рассказал мне про это, и я предложил составить согласие на основаниях, изложенных на прилагаемом листке.7 Члены стали набираться, и теперь их более 1200. Надо бы было испросить разрешение правительства для основания формального общества. Но я этого не делал, боясь всякой формальности, так как часто замечал, что очень часто внешность подавляет содержание. Теперь основываются в разных местах новые общества. Если бы вы или священник Б[есергеневский] обратились к министру Вн[утренних] Д[ел] с проектом основания общества трезвости, то это было бы очень хорошо. От души желаю вам успеха.3
4 Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 15 января: «Написал.... 2 [письма] по общ[еству] трезвости» (см. т. 51, стр. 11).
Александр Петрович Куприянов из г. Новочеркасска обратился к Толстому с письмом от 1 января 1890 г. по поручению священника Бесергеневской станицы Области Войска Донского Василия Ивановича Попова (1855—1922), основавшего в 1889 г. общество трезвости. Основание этого общества «встретило препятствие» со стороны пьющих и вызвало ряд сомнений в среде самих членов общества, за разрешением которых Куприянов и обратился к Толстому.
1 Какие книги и какой список послал Толстой Куприянову, неизвестно.
2 [А. Т. Соловьев], «Татьянин день. Ответ на возражения Льву Толстому», Казань 1890.
3 «Грех и безумие пьянства. Сборник поучений против пьянства. Из творений св. Тихона Задонского, св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, св. Ефрема Сирина и иных», изд. Сытина, М. 1890. В этом сборнике напечатана написанная Толстым в 1889 г. статья «Пора опомниться!».
4 Александр Титович Соловьев (1853—1919). О нем см. т. 64, стр. 150.
5 О Петре Семеновиче Алексееве см. прим. к письму № 59. Книга его «О пьянстве», оконченная летом 1889 г. и находившаяся в то время в рукописи у Толстого, была издана в 1891 г. редакцией журнала «Русская мысль» с предисловием Л. Н. Толстого «Для чего люди одурманиваются?». См. тт. 27 и 64. В 1890 г. П. С. Алексеев в Москву не приезжал.
6 Вернувшись из Америки, П. С. Алексеев опубликовал статью «Успех в борьбе с пьянством» («Московские ведомости» 1887, № 336 от 6 декабря) и издал книгу «По Америке. Поездка в Канаду и Соединенные Штаты», М. 1888.
7 Общество трезвости, или «Согласие против пьянства», было основано Толстым в Москве в декабре 1887 г. См. т. 64. «Прилагаемый листок» — текст «Согласия». Напечатан в «Известиях Общества Толстовского музея», СПб. 1911, № 3-4-5, стр. 6. См. там же статью В. Д. Бонч-Бруевича «Итоги «Согласия против пьянства».
3. В. Г. Черткову от 15 января 1890 г.
4. А. И. Эртелю.
1890 г. Января 15. Я. П.
Александр Иванович!
Ничего вам не могу сказать про Наполеона. Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, к[оторые] представляет это лицо. Самый драгоценный4 5 матерьял, это Mémorial de St. Hélène.1 И записки доктора о нем.2 Как ни раздувают они его величие, жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi3 - величия, поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни. Эти последние годы его жизни — где он играет в величие и сам видит, что не выходит — и в кот[орые] он оказывается совершенным нравственным банкротом, и смерть его — это должно быть очень важной и большой частью его жизнеописания.
Насчет повести моей, вчера отдали ее Стороженко.4 Он хочет попытаться пропустить ее с вырезками. Переписываем теперь для переводчиков. Как будет время, то закажу для вас. Помогай вам бог. Хороши у вас работы затеяны и Будда5 и Наполеон, как я его вспомнил. Ох, какую книгу именно народную можно написать и именно вы. Ну, до свиданья. Все сем[ейные]6 вам кланяются.
Л. Толстой.
На конверте: Ст. Графская, Козловс[ко-] Вор[онежской] железн. дор. Хутор на Грязнуше. Александру Ивановичу Эртелю.
Впервые опубликовано без обращения и подписи в журнале «Голос минувшего» 1913, 1, стр. 173. Дата определяется почтовым штемпелем и записью в Дневнике Толстого 15 января (см. т. 51, стр. 11).
Александр Иванович Эртель (1855—1908), писатель. См. о нем т. 63, стр. 285—286.
Письмо Эртеля, на которое отвечает Толстой, неизвестно. В. Г. Чертков в письме от 19 октября 1889 г. предложил Эртелю составить для «Посредника» исторический очерк о Наполеоне I.
1 Comte de Las-Cases, «Mémorial de Sainte Hélène» (Граф Лас-Каз, «Дневник на острове св. Елены»). Первое издание вышло в Париже в 1822—1823 гг. По свидетельству С. А. Толстой, отмеченному в составленном В. Ф. Булгаковым списке книг яснополянской библиотеки, данное сочинение служило Толстому материалом для работы над «Войной и миром» «более, чем что-либо другое».
2 O’Meara, «Napoleon in exile or a voice from St. Helen», London 1822 (O’Meapa, «Наполеон в изгнании, или голос со св. Елены»).
3 [мнимого]
4 Николай Ильич Стороженко (1836—1906), профессор истории литературы, исследователь Шекспира. См. тт. 64 и 67. Стороженко предполагал5 6 напечатать повесть Толстого «Крейцерова соната» в сборнике «В память
С. А. Юрьева». Попытка эта окончилась неудачей. См. т. 27, стр. 592.
5 В сентябре 1889 г. Эртель по предложению В. Г. Черткова приступил к переложению статьи о Будде, составленной В. Г. Чертковым. Часть работы Эртелем была выполнена, но до конца не была доведена.
6 Последние два слова написаны неразборчиво.
* 5. П. И. Бирюкову.
1890 г. Января 17. Я. П.
Вчера получил ваше письмо. Понимаю, знаю, пережил ваше уныние. Претерпевый до конца спасен будет. Но тут даже и терпеть нечего; только бы не требовать того, чтобы тот матерьял, из к[оторого] мы призваны строить (участвовать в постройке) был мягкий, легкий, так, чтобы его легко было формовать по своему желанию; а вспомнить, как тешут Сютаевы камни.1 Да и это дурное сравнение. Не сравнение даже, а определение скорее, к[оторое] всегда утешает меня в такие минуты, как те, к[оторые] вы переживаете, это то, что всё живое растет, рост же есть незаметное, но и не останавливающееся достижение того, чем должно быть. И царство божие и в наших душах и в мире растет. И когда оно растет в нашем сознании быстрее, чем в внешнем мире, нам кажется, что мир стоит. Ну, да это всё слова. Вы и без этих слов узнаете или уже знаете всё это.
2Статью я вашу получил.3 Начало мне не понравилось и то потому только, что в нем недоброе, неспокойное отношение к людям, насмешка и враждебность. Это надо уничтожить. Весь замысел же статьи4 хорош, и очень хорошо и верно сравнение с посевом под снегом. Матерьялу вам нужно. Я вам желал бы доставить, но боюсь, что обещаю и не сделаю, и потому не обещаю, но все-таки постараюсь сообщить вам, что знаю.5 Собирайте сами и делайте, что можете, из того матерьяла, к[оторый] есть у вас. Я ведь сам всё мечтаю написать то же, и одно не только не мешает, но еще помогает другому. Что делать с вашей статьей? Удержать ее или отослать вам?
6Я теперь в очень низком, хотя и не дурном душевном состоянии. По случаю игры комедии, я всё поправлял ее и даже после исправлял ее.7 Очень низкое и увлекающее занятие. Но и кроме ее у меня начаты еще другие художеств[енные] работы6 7 всё на тему половой любви (это секрет),8 я и своим не говорю, и тоже низкое ремесленное занятие, к к[оторому] я вижу, как полезно относиться презрительно.
9 Маша писала вам и показала ваше письмо. В ваших: отношениях вы, надеюсь, понимаете мое положение. Я не только не хочу позволить себе вмешиваться в них, в ту или в другую сторону, но не позволяю себе даже желать чего-либо в ту или другую сторону. Роль моя здесь та, что, любя вас обоих, я боюсь за вас, как бы не ошиблись, нравственно не согрешили, и хотелось бы, если могу, избавить вас от греха, п[отому] ч[то] знаю, что только одно это — грех — дурно и больно.10
Л. Т.
Дата определяется записями в Дневнике Толстого 16 и 17 января 1890 г. (см. т. 51, стр. 12). На автографе помета Бирюкова: «18 янв. 1890».
Павел Иванович Бирюков (1860—1931). См. о нем в т. 63, стр. 227—232. В письме из Костромской губ. от 13 января 1890 г. Бирюков просил Толстого высказаться по поводу его статьи «Весна человечества» (см. прим. 3).
1 Василий Кириллович Сютаев (1819?—1892). См. т. 63, стр. 84.
2 Абзац редактора.
3 Рукопись статьи П. И. Бирюкова «Весна человечества» (вступительная часть к неоконченному труду «Под снегом»). Напечатана в журнале «Духовный христианин» 1908, 1, стр. 37—44; 7, стр. 23—28; 8, стр. 16—22; 10, стр. 25—29.
4 Зачеркнуто тремя чертами: очень
5 См. письмо № 31.
6 Абзац редактора.
7 Комедия «Плоды просвещения», написанная в 1889 г. и поставленная в Ясной Поляне 30 декабря (см. т. 27). Толстой продолжал ее переделывать во время репетиций и после спектакля, вплоть до 9 февраля 1890 г., как видно по записям в его Дневнике за 1889 и 1890 гг.
8 Роман «Воскресение», начатый Толстым в декабре 1889 г. (см. т. 33), и повесть «Дьявол» (см. т. 27).
9 Абзац редактора.
10 Предполагался брак М. Л. Толстой с Бирюковым. См. т. 64.
6. Е. И. Попову.
1890 г. Января 17. Я. П.
То, что вы пишете во 2-м письме о жизни, многое давно, а одно, именно то, что благо личности для мирского человека не призрачно, а законно, это очень недавно думал, разумеется7 8 иначе, — как всякий человек, по-своему, — но это самое, именно то, что несправедлива строгость и осуждение к мирским людям, не только несправедливо, но даже жестоко, вроде того, как злиться и бить глухонемого за то, что он не делает того, что я велю. Я много грешен в этом и стал понимать это только последнее время. Ведь стоит только вспомнить, как сам относился к учению истины в прежнее время: не видел ее, не имел органа для понимания ее. Так и они.
Отрывок письма (полный текст неизвестен) печатается по машинописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 28. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 17 января (см. т. 51, стр. 12).
Евгений Иванович Попов (1864—1938). См. о нем в т. 64, стр. 108.
Ответ на два несохранившихся письма Е. И. Попова.
7. В. В. Рахманову.
1890 г. Января 17. Я. П.
Спасибо, что написали, Владимир Васильевич. Всегда с радостной улыбкой в душе думаю про вас. —
Страшно даже сказать, что жизнь в бесконечном совершенствовании. Кажется, как широко, а такое определение скорее суживает. Скажу вам то, что мне думалось последнее время; оно отвечает отчасти на это.
1 Говорят, вера, надежда, любовь. Почему вера? и во что вера? Почему надежда? Надежда уж тут ровно ни к селу ни к городу — надежда есть одно из последствий веры. Говорят: всё дело в вере; верить надо в библию, в церковь, в Магомета, Будду и всякую чепуху. И наслушавшись всего этого, мы получаем отвращение к этому слову и понятию веры и отбрасываем его. А это неверно, вера есть необходимое условие религиозного мировоззрения или, проще, разумного взгляда на жизнь. Без веры нельзя разумно смотреть на мир. Без веры можно только безумно смотреть на. мир, воображая, что он как-то начался по механическим законам и никогда не кончится. Такой взгляд нелеп, главное, тем, что говорится о том, как произошел мир и как развивался и т. п., а ничего не говорится о том едином, что нужно знать: что мне делать? И при нелепом взгляде веры не нужно. Но как только взгляд не безумен и составляет8 9 ответ на вопрос: что мне делать? так без веры нельзя. Ответ на вопрос: что мне делать? ясен для всякого искреннего человека — любить выше всего Истину, благо — бога и вследствие того ближнего, и дальнего, и курицу, и дерево (всё по порядку), и жить, руководясь этой любовью. Но из-за этого ответа выступает другой вопрос, на кот[орый] нет, да и не может быть ответа: зачем богу или той силе, к[оторая] меня послала сюда, сделала, зачем ей нужно, чтобы через меня делалось добро? Что ей, этой силе, нужно, чтоб через меня делалось добро, это несомненно, но зачем это ей нужно? Что выйдет из того, что через меня делается, что выйдет из этого для меня? этого не дано мне знать. И тут место вере, но вере не в троицу, не в Магомета, не в Христа, не в бога даже, а вера богу, вера тому началу, к[оторое] меня послало сюда. Я верю ему, тому, что он разумен и благ, и потому худого мне от него не будет. Вот эта вера необходима, нужна; для нее прямо сделано место. И без нее беспокойно и жутко. И вера эта есть у вас и у меня, и тем сильнее, чем больше мы исполняем волю пославшего. Чем более исполняешь, тем больше веришь — не потому, что раз попал, так уж надо верить, а потому, что по мере исполнения как бы уясняется смысл, не словами, а всей жизнью — тем тверже веришь в него, в его разумность и доброту и даже в то, что то, чего я не знаю, мне не надо знать, что иначе и быть не могло.
Так что не бесконечное совершенствование жизнь2 — тут могут быть упадки, и от того разочарования, сомнения. А — возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. — Не могу вам передать словами чувства, к[оторое] всегда возбуждали и возбуждают во мне эти слова, и как они отвечают для меня на всё. —
Не совершенствоваться мне, гордому мне, поганому мне, а взять то положение, то тело, то здоровье, тот нрав, то прошедшее, те грехи даже, и с кротостью и смирением сердца искать всегда, всякую минуту случая исполнить нужное ему дело. Не гожусь ли я заткнуть дыру какую-нибудь? Подтереть мной что-нибудь? Примерами мерзости порока и грехов не могу ли пригодиться? Просто телом моим понавозить.
И если удается чувствовать себя так, тогда3 всё чудесно, легко и твердо.9
10 Скажут: это уничтожает стимул совершенствования. Не бойтесь: потребность быть лучше та же, что потребность быть счастливее; ее поощрять не нужно. Надо, чтобы это делалось само собой, а4 нехорошо, когда это становится целью.
Ум, знаете, как бинокль, — развертывать до известной степени, а дальше вертеть хуже. Так и в вопросах о жизни, о «зачем» жизни. Помилуй бог. Ответы на эти вопросы в вере Ему (вера, подобная той, кот[орая] есть у клеточки тела, работающей для него),5 а вера дается по мере смиренной готовности творить волю Его.
6Привет М[ихаилу] А[лександровичу]7 и всем вашим. Пишите. Я занимался глупостями. Исправл[ял] комедию.8 И теперь пишу ту повесть. к[оторую] вы мне велели.9
Л. Толстой.
Впервые опубликовано с ошибочной датой «осень 1899 г.» в журнале «Минувшие годы» 1908, 12, стр. 295—297. Дата установлена сопоставлением комментируемого письма с письмом Рахманова к Толстому от 4 января 1890 г. и с записью в Дневнике Толстого 17 января (см. т. 51, стр. 12).
Владимир Васильевич Рахманов (1865—1918) — с 1889 г. врач, автор ряда статей по популярной медицине и вопросам воспитания, участник нескольких земледельческих общин. В 1886—1889 гг. бывал неоднократно у Толстого в Ясной Поляне и в Москве и написал воспоминания (напечатанные под инициалами «В. Р.»): «Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидесятых и начале девяностых годов» — «Минувшие годы» 1908, 9, стр. 3—32. В 1908 г. в том же журнале (книга 12) Рахмановым опубликованы с комментариями письма Толстого к нему под заглавием: «Семь писем Льва Николаевича Толстого», стр. 295—308.
Ответ на письмо Рахманова от 4 января 1890 г., посвященное религиозно-нравственным вопросам.
1 Абзац редактора.
2 Слово: жизнь написано над зачеркнутым: цель
3 Зачеркнуто: как радостно и всё ясно и вписано окончание фразы.
4 Можно прочесть: и
5 Заключенное редакцией в скобки написано внизу страницы со значком, указывающим место вставки.
6 Абзац редактора.
7 М. А. Новоселову. См. прим. к письму № 45.
8 «Плоды просвещения».
9 «Воскресение», в то время еще не имевшее этого заглавия и называвшееся «Коневской повестью», по имени А. Ф. Кони, сообщившего Толстому ее сюжет. См. т. 33.
8. H. H. Ге (отцу).
1890 г. Января 20. Я. П.
Молодой человек,1 к[оторый] передаст вам это письмо, живет в Киеве, где он в университете. У пего самые хорошие стремления, но есть слабость — забота о физическом себе, о своем здоровье, к[оторое], ему кажется, душевно расстроено. Он очень одинок в Киеве, поэтому я ему и советую заехать к вам. Надеюсь, что вы ему духовно поможете.
Давно ничего не знаю про вас обоих;2 напишите. Я живу хорошо, много пишется и хочется писать. Воображаю, что и у вас кипит работа над «Что есть истина».3 Да и нет ли другого чего. Чует сердце, что скоро увидимся.4
Л. Толстой.
Впервые опубликовано в ТГ, стр. 129—130. Дата установлена на основании записи в Дневнике Толстого 20 января 1890 г. (см. т. 51, стр. 13).
Николай Николаевич Ге (1831—1894) — художник, друг Толстого. См. о нем в т. 63, стр. 160—161.
1 Алексей Андреевич Евдокимов. См. тт. 51 и 64.
2 Николай Николаевич Ге, сын художника. См. прим. к письму № 15.
3 В письме от 6 ноября 1889 г. H. Н. Ге (отец) писал: «Теперь, с зимою, я начал писать картину «Что есть истина». Для этой картины я ездил в Киев, кое-что собирал. Теперь работаю, и на душе очень хорошо». Купленная П. М. Третьяковым в июне 1890 г. картина находится в Москве в Государственной Третьяковской галлерее.
4 H. Н. Ге заехал в Ясную Поляну в конце января по дороге в Петербург на выставку «Передвижников», куда послал свою картину «Что есть истина?». См. т. 51, стр. 178.
9. Н. Н. Ге (отцу).
1890 г. Января 21. Я. П.
Вчера написал вам письмо с юношей Евдокимовым и всё время последнее думал о вас. Приезжайте же скорее. Если хорошая погода, то с Козловки прекрасно можно дойти, но вернее из Ясенков, где всегда можно найти санки. Еще же лучше бы было, если бы вы написали, когда вы будете — открытым письмом на Козловку. На Козловку ездят каждый день, и тогда я бы за вами выехал. Очень, очень хочется видеть вас и Количку. Через вас хоть увижу его. — Л. Толстой.11
12 Впервые опубликовано в ТГ, стр. 130—131. Дата определяется предыдущим письмом.
Настоящее письмо написано после получения письма Ге от 17 января 1890 г. с его хутора близ ст. Плиски, Черниговской губ. Ге сообщал: «Картину «Что есть истина», слава богу, окончил и вышел из того особого мира, в котором ее писал, и увидел, что делается вокруг.... Я теперь делаю рисунки последней картины «Что есть истина», главным образом, чтобы Вам показать. Мне жалко будет, если Вы не будете знать моей картины».
* 10. П. В. Попову.
1890 г. Февраля 1. Я. П.
П[етр] В[асильевич], письмо ваше от 24-го ноября я получил, но не ответил по многим причинам, из которых одна — моя небрежность, за которую прошу меня простить. Другие же причины, по которым я не отвечал и теперь не отвечаю на ваши вопросы, те, что в письме такие вопросы выяснить нельзя: о них надо или беседовать устно, или писать сочинения, что я и делаю по мере сил. Одно могу сказать по отношению к вашим вопросам — это то, что меня в законе Христа преимущественно интересует то, что вполне ясно и несомненно и все-таки не исполняется нами, а именно то, чтобы жить, никогда не нарушая любви к людям, не сердясь, не клянясь, не прелюбодействуя даже в сердце, не противясь злому, а подставляя щеку и любя не одних ближних, но и ненавидящих нас. Вот это, разъяснение этого, затверждение этого, облегчение исполнения этого, устранение всех соблазнов, мешающих исполнению этого, этих пяти заповедей (Мф., V, 21—47), это занимает всё мое внимание; и я думаю, что пока христианин не достигнет этого, ему некогда ни о чем другом думать. О том же, как, когда будет второе пришествие и воскресение, я пред[о]ставляю думать богословам, архиереям, полагая, что, если я исполню повеленное Хозяином, Хозяин меня не оставит, и со мной будет то самое, что должно быть и что я в свое время узнаю. Душевно рад общению с вами. Если я, пиша к вам, не делаю обращения: брат, дорогой и т. п., то это потому, что решил последнее время, что такие обращения выделяют одних людей от других и потому нехороши. Чувства же испытываю к вам, как и ко всем людям, братские. Помоги вам бог исполнить его волю.12
13 Печатается по машинописной копии «К неизвестному (П. В.)». Отрывок опубликован в журнале «Голос Толстого и Единение» 1918, 5, стр. 3. Дата копии.
Петр Васильевич Попов (ум. 1895) — уроженец села Рассказово, Тамбовской губ., сектант-молоканин.
Ответ на письмо Попова от 27 ноября 1889 г. (в письме Толстого описка — «24 ноября»; возможно также, что эта ошибка сделана в копии), посвященное ряду религиозных вопросов.
11. В. Г. Черткову от 1 февраля 1890 г.
12. Е. Н. Воробьеву.
1890 г. Февраля 2. Я. П.
Разъяснять то, что в газетном известии несправедливо, не считаю возможным в письме, да это и не нужно. Одно, что вам нужно, — это знать, продолжаю ли я так же смотреть на жизнь и стараюсь ли я так жить, как я высказывал в своих писаниях.
На этот вопрос отвечаю, что чем ближе я подхожу к плотской смерти, тем несомненнее для меня истинность высказанного мною взгляда на жизнь, тем несомненнее для меня требования моей совести и тем радостнее мне им следовать. Вот тут-то я боюсь, судя по первому ответу вашему на мое письмо1 и по сегодняшнему письму, что у вас другим, чем у меня, определяется исполнение требований совести.
Каждый из нас, познав истину, застает себя в известном далеком от этой истины мирском положении, в связях, узлами завязанных и мертвыми петлями нашими грехами, затянутых связях с людьми мира. И человеку, познавшему истину, прежде всего представляется, что главное, что он должен делать, состоит в том, чтобы сейчас же, во что бы то ни стало выйти из тех условий, в которых он находится, и поставить себя в такие условия, находясь в которых бы ясно видно было людям, что я живу по закону Христа, и жить в этих условиях, показывая людям пример истинной христианской жизни. Но это не так: требования совести не состоят в том, чтобы быть в том или другом положении, а в том, чтобы жить, не нарушая любви к богу и ближнему. Христианин всегда будет стремиться к чистой от греха жизни, всегда изберет такую жизнь, если для достижения13 14 ее не будут требоваться от него дела, нарушающие любовь; но дело в том, что никогда человек не бывает так мало связан своими и чужими грехами с прошлым, чтобы быть в состоянии, не нарушив любви к богу и ближнему, сразу вступить в такое внешнее положение. Всякий христианин среди мирских людей находится в таких условиях, что для того, чтобы ему приблизиться к этому положению, ему надо прежде распутывать узлы своих прежних грехов, которыми он связан с людьми, и потому главная и первая задача его в том, чтобы по закону любви к богу и ближнему распутывать эти узлы, а не затягивать их, и, главное, не делать больно тем, с кем он связан. Дело христианина не в каком-нибудь известном положении: в положении земледельца и т. п., а в исполнении воли бога. Воля же бога в том, чтобы на все требования жизни отвечать так, как того требует любовь к богу и людям. И потому определять близость или отдаленность себя и других от идеала Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, а по тем поступкам, которые он совершает. Отвращение христианина к мирской жизни всегда будет одно и то же и не может измениться, и потому поступки христианина будут всегда клониться к тому, чтобы уйти от зла, суеты, роскоши, жестокости мирской жизни и прийти к самому низкому, презираемому в мирском смысле положению. Но то, в каком будет находиться христианин положении, будет зависеть от условий, в которых его застало сознание истины, и от степени чуткости его к страданиям других. Его поступки могут привести его на виселицу, в тюрьму, в ночлежный, но могут привести его и во дворец и на бал. Важно не положение, в котором находится человек, а те поступки, которые привели его в то положение, в котором он находится; судьей же в этих поступках может быть только он сам и бог.
Но вы скажете: поэтому человек, исповедуя христианское учение, может, под предлогом того, что он не хочет оскорбить близких людей, продолжать жить греховной жизнью, оправдывая себя мнимой любовью к богу и ближнему. Да, может, но точно так же может, как и человек, который, устроив себе безгрешное (или кажущееся ему таковым) положение земледельца, может жить в нем только для того, чтобы хвалиться этим положением перед людьми. В том и в другом случае суждение невозможно, и в том и в другом случае опасность одинакова. Для первого опасность в том, что, продолжая жить ради любви14 15 к людям, в мирских условиях жизни, соблазняешься этими мирскими условиями и пользуешься ими не потому, что не можешь иначе, а по своей слабости, это я испытываю часто; для второго опасность в том, что, поставив себя сразу в те условия жизни, которые считаешь праведными, живешь в этих условиях, не стараясь итти вперед к совершенству любви, а гордясь своим положением, презирая и не любя всех тех, которые не находятся в этом положении; и это я испытывал, только не так часто. Путь узкий в обоих случаях, и знает о том — стоит ли он на пути, только тот, кто идет, и бог. Судить же одному о другом нельзя и по различию положения, и более всего по различию степени чуткости душевной. Один человек, оставив жену, или мать, или отца, огорчив и озлобив их своим оставлением, не делает почти дурного поступка, потому что он не чувствует всей причиняемой боли; другой, сделав тот же поступок, сделал бы гадкий поступок, потому что он чувствует вполне боль, которую причиняет. Судить о богатстве, красоте, силе людей мы можем, но о степени праведности их не то что запрещено нам, но мы не можем судить. И это великое благо. Если бы могли судить, мы бы не могли любить некоторых людей; а не будучи в состоянии судить, у нас нет препятствий любить всех. Одно только мы знаем, что сказано Мф., VІ, что для человека положение, в котором люди хвалят, невыгоднее, чем то, в котором ругают. В первом случае к делу божью может примешиваться желание похвалы людской, во втором случае, если что делается для бога, то только для него.
Еще скажу вам вот что: положим, шел человек без дороги, мучаясь, целиком, и потом нашел дорогу и пошел к ней сам и указал ее другим людям. Неужели люди, увидав дорогу и вместе с тем заметив, что человек, указавший им ее, идет еще целиком, подумают, что человек усомнился в преимуществе дороги перед бездорожьем, и даже сами усомнятся в том, что по дороге лучше итти, чем без нее? Всё, что могут подумать люди, увидав, что выведший их на дорогу человек не идет еще по ней, это то, что есть какие-то невидные им причины, мешающие ему выйти на дорогу (овраг, ручей), сами же они никак не усомнятся. И потому, если вы осуждаете меня просто как человека, вы делаете неправильно, судя по моему положению (и даже не по положению, а по суждению другого человека, превратно описывающего это положение), то поступаете неправильно,15 16 как мы все поступаем, судя о других людях. Если же вы судите обо мне, как вы говорите, как о вашем руководителе к истинному благу, то еще более неправильно, предполагая, что человек, познавший благо, может бросить его и вернуться опять к злу, от которого он только что спасся. Мы всё забываем, что учение Христа не есть учение вроде Моисеева, Магометова и всех человеческих учений, учение о правилах, которые надо исполнять. Учение Христа есть Евангелие, т. е. учение о благе. Кто жаждет, иди и пей. И потому в этом учении нельзя никому ничего предписывать, никого ни в чем укорять, никого судить. Иди и пей, кто жаждет, т. е. бери то благо, которое нам открыл дух истины. Как же предписывать пить или быть блаженным? Нельзя и укорять человека за то, что он не пьет, или не блажен, нельзя и судить за это. Одно, что можно, что и делали и всегда будут делать христиане, это чувствовать себя блаженным и желать сообщить этот ключ к блаженству другим людям. Вопрос, который вы затронули, занимал меня давно, и я часто встречал недоразумение в этом смысле и потому рад был случаю высказаться.
Если вас огорчило то, что на ваш вопрос: заехать ли ко мне? я ответил: лучше нет,2 то мне очень жаль. Ответил же я так, как я отвечаю всем без различия людям, которые спрашивают меня: можно ли приехать. Жизни мне осталось мало, а дела представляется много. Но когда приезжают прямо, не спрашивая, то я бываю рад всем людям, особенно близким по духу и которым кажется, что я могу быть полезен.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Небольшой отрывок с искажениями под заглавием «Иди и пей» напечатан в «Спелых колосьях», 1, стр. 17—18. Почти полностью с многочисленными искажениями и с заглавием «Не судите» опубликовано в «Спелых колосьях», 2, стр. 97—100. Дата «6 февраля 1890 г.», имеющаяся на копии, не подтверждается записями в Дневнике Толстого. Судя по Дневнику, письмо было написано 2 февраля (см. т. 51, стр. 16).
Ефим Николаевич Воробьев (1852—1914) — в 1890 г. был начальником станции Деконской, Донецкой ж. д. См. т. 64, стр. 316.
Ответ на письмо Воробьева от 29 января 1890 г., в которое была вложена газетная вырезка (она не сохранилась) о бывшем в доме Толстых зимой 1889/90 г. костюмированном вечере, на котором присутствовал Толстой и в котором он, по словам Воробьева, «принимал участие.... может быть, во фраке и в галстуке». Воробьев, считая, что такой поступок Толстого является «отступлением от его проповеди», просил опровергнуть это сообщение,16 17 чтобы не дать повод к обвинению Толстого в фарисействе. См. письмо № 19.
Об упоминаемом вечере см. Н. В. Давыдов, «Из прошлого», М. 1913, стр. 266—267.
1 См. письмо Толстого к Е. Н. Воробьеву от начала октября 1889 г., т. 64, стр. 315—316. Ответ Воробьева неизвестен.
2 О своем желании приехать к Толстому Воробьев сообщал в письме с почтовым штемпелем: «Донецкая, 16 ноября 1889».
* 13. Р. Лёвенфельду (R. Lӧwenfeld). Неотправленное.
1890 г. Февраля 6. Я. П.
Милостивый Государь,
Отвечаю по пунктам на ваши вопросы. 1) Я не знаю никакой подробной биографии и полагаю, что таковой нет.
2) Дать какому-либо издателю исключительное право издания я считаю противным моим взглядам и не имеющим никакой цели.
3) Как «соната», так и комедия еще не появлялись в печати, и списки, которые ходят по рукам в Москве и Петербурге, списки неверные.1 Когда у меня будут оттиски, я доставлю вам; но вперед говорю, что это очень сомнительно, и вернее бы было, если бы вы поручили это кому-нибудь в Москве помимо меня.
Адреса, который вы потеряли, я тоже не могу вспомнить.
Желаю вам всего лучшего.
Лев Толстой.
Дата «6 февр.» поставлена перед текстом письма рукой М. Л. Толстой. Письмо отправлено не было. Лёвенфельду ответила М. Л. Толстая, к письму которой Толстой сделал приписку. Текст этой приписки неизвестен.
Рафаил Лёвенфельд (Raphael Löwenfeld, ум. 1910) — профессор по кафедре славянских языков в Бреславльском университете, с 1900 г. директор Шиллеровского театра в Берлине; в 1888 г. редактор журнала «Nord und Süd»(«Север и юг»); переводчик Толстого и других русских классиков на немецкий язык; автор биографии Толстого «Leo N. Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschaunung», R. Wilhelmi, Berlin 1892 («Лев H. Толстой, его жизнь, произведения, миросозерцание»), книги «Gespräche über und mit Tolstoj», Berlin 1891 («Разговоры с Толстым и о Толстом») и многих статей о Толстом. С Толстым познакомился в июле 1890 г. в Ясной Поляне.17
18 В письме на немецком языке из Берлина от 7 февраля нов. ст. Лёвенфельд сообщал, что послал Толстому две свои статьи о нем и его произведениях и собирается писать книгу о Толстом, которая выйдет в издании Рихарда Вильгельми в Берлине. В связи с работой над этой книгой Лёвенфельд задавал Толстому три вопроса: 1) Не появилась ли где-либо подробная биография Толстого на русском языке? 2) Имея намерение издать вместе с Р. Вильгельми собрание произведений Толстого в тщательном, точном немецком переводе, Лёвенфельд просил авторизации перевода. 3) Спрашивал, не может ли Толстой прислать ему литографированные экземпляры «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения».
1 Ходившие по рукам «списки», то есть копии, преимущественно литографированные, этих произведений были сделаны не с последней редакции. Так, литографированные копии «Крейцеровой сонаты» были сняты со списка рукописи, помеченной 26 августа (надо — 28 августа) 1889 г., тогда как повесть эта была закончена около 8 декабря. Все заграничные издания «Крейцеровой сонаты», вышедшие в 1890 г., переведены с версии 28 августа.
Ответ Лёвенфельда на письмо М. Л. Толстой неизвестен. Из его письма к С. А. Толстой от 8 марта видно, что, получив письмо М. Л. Толстой, он вновь написал Льву Николаевичу, прося о праве напечатать на своем издании собрания произведений Толстого: «С одобрения автора», и что в ответ на свою просьбу он получил краткое письмо от Т. Л. Толстой, помеченное «16 февраля 1890», в котором это разрешение было дано.
14. В. И. Алексееву.
1890 г. Февраля 10. Я. П.
Нет у меня теперь рукописи. Если вы прежде не достанете, то пришлю, как только будет. Мне нужно и дорого ваше впечатление. Содержание того, что я писал, мне б[ыло] так же ново, как и тем, к[оторые] читают. Мне в этом отношении открылся идеал, столь далекой от действительности моей, что сначала я ужаснулся и не поверил, но потом убедился, покаялся и порадовался тому, какое радостное движение предстоит другим и мне, пока еще жив, для этой ясно обозначившейся цели — так далеко стоящей впереди нашей гнусной действительности. Желаю и надеюсь, чтобы вам пришлось по душе. Надеюсь, п[отому] ч[то] оно обличает, заставляет каяться. А покаяние из страдания делает благо.
Л. Т.
На обороте: Г. Самара. Управление Оренб[ургской] жел. дороги. Владимиру Алексеевичу Осипову для передачи В. И. Алексееву.18
19 Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 315. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 10 февраля (см. т. 51, стр. 17).
Василий Иванович Алексеев (1848—1919). См. о нем в т. 63, стр. 81—82. В 1890 г. Алексеев жил на хуторе своего приятеля А. А. Бибикова в Самарской губ.
Ответ на письмо Алексеева от 1 февраля [1890 г.] с просьбой прислать список «Крейцеровой сонаты».
15. Н. Н. Ге (сыну).
1890 г. Февраля 10. Я. П.
Начал длинное письмо, — не дописал;1 но не хочется вас оставлять без ответа. Спасибо за письмо.2 Вновь прибывшего Ивана3 приветствую. Откуда он? Зачем он? Куда он? и кто он? Хорошо тем, для кого протоплазма составляет достаточный ответ на эти вопросы; кого же не удовлетворяет этот ответ, тем неизбежно надо верить в то, что есть глубокий смысл в появлении и жизни Ивана и что смысл этот мы поймем настолько, насколько мы сделаем всё, что должно, по отношению к нему, к Ивану.
Л. Толстой.
Печатается по копии М. Л. Толстой. Почти полностью опубликовано в сборнике «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch, Hants, England, 1901, стр. 65. На копии дата «12 февраля 1890 г.», проставленная по почтовому штемпелю. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 10 февраля (см. т. 51, стр. 17).
Николай Николаевич Ге (1857—1939) — старший сын художника. Подробнее о нем см. в т. 63, стр. 208.
1 См. письмо № 19.
2 Письмо Н. Н. Ге неизвестно.
3 31 января у Н. Н. Ге родился сын Иван (ум. 1916).
16. Н. Н. Ге (отцу).
1890 г. Февраля 10. Я. П.
Всё думаю о вас и о вашей картине. Очень хочется знать, как к ней отнесутся1 и кто как? Меня мучает то, что фигура Пилата мне как-то с этой рукой представляется неправильной.19
20 Я ведь не утверждаю, а спрашиваю; и если знатоки скажут про эту фигуру, что правильна, то я успокоюсь. Об остальном я знаю и спрашивать ничьего мнения не желаю. Как выживете, милый друг? Напишите словечко. От Колички получил письмо, но не успел ответить длинно. Только карточкой ответил.2 Приветствую вновь появившегося внука. — Привет всем, Чертк[овым],3 Поше,4 Ване.5
Л. Т.
На обороте: Петербург, Лиговка, 31. Склад Посредник. Для передачи Н. Н. Ге.
Полностью опубликовано в ТГ, стр. 131—132. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 10 февраля (см. т. 51).
1 Картина Н. Н. Ге «Что есть истина?» была выставлена на восемнадцатой выставке «Передвижников», открытой 11 февраля 1890 г. в Петербурге. Через несколько дней по открытии выставки картину приказано было снять. См. приписку к письму № 40. Рецензий в газетах было мало. См. В. В. Стасов, «Николай Николаевич Ге», изд. «Посредник», М. 1904, стр. 322—328.
2 См. письмо № 15. «Карточкой» Толстой называл «открытку».
3 Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936), его жена Анна Константиновна, рожд. Дитерихс (1859—1927), и сын Владимир Владимирович.
4 П. И. Бирюков.
5 Иван Иванович Горбунов-Посадов. См. прим. к письму № 48.
17. П. И. Бирюкову.
1890 г. Февраля 14. Я. П.
<Это так я думаю. Молитва нужна.> Начал так. Хотел согласиться с вами; но, спросив себя поглубже, увидал, что нет. Для меня не так: молитва не есть только заглаживанье своего разрыва с богом, молитва для меня есть с одной стороны сознание моего отношения к богу, с другой стороны есть увеличение моей духовной силы, есть как бы разведение паров, к[оторые] будут работать, размахиванье колеса, набирание силы. (Я говорю тут только то, что знаю из опыта). Молюсь я часто, т. е. раза два-три в день, и всегда «Отче наш». Пробовал я слагать свои молитвы, последнее время сложил молитву, выражавшую сознание того, что я есмь орудие, орган бога и что я желаю одного — исполнять свое назначение без небрежности и без напряжения, постоянно сознавая, что через меня действует20 21 сила божия, и иногда и вспоминаю это; но, как молитва, «Отче наш» остается для меня не то что незаменимым, но заменяющим и исполняющим все требования сердца. — «Отче наш» теперь для меня выражается пятью положениями, кот[орые] так мне ясны, необходимы, связаны между собой и радостны, что они свободно возникают в душе и всякий раз говорят как будто что-то новое, из меня исходящее. Мф., 9, ст. 1) Свята сущность Твоя — любовь. Стало быть, всё должно быть меряно и руководимо только ею — любовью. И сейчас уж становится тверже и легче, и все затруднения распутываются. 2) 10 ст. Указание того, что делать надо, руководясь любовью в том, чтобы делать то, что содействует установлению царства Твоего, свободного, радостного на земле, как на небе. Это дает содержание любовной деятельности, — если не знаешь, что делать вообще, или что из двух. 3) 11 ст. И делать это дело любовного установления цар[ства] б[ожия] я хочу и буду теперь, сейчас, сию минуту, там, где и с кем я теперь. И это еще усиливает размах и дает страшную твердость, если только слился с этой мыслью. 4) Если есть препятствие к этому, то только в моем прошедшем, в грехах — хочу избавиться от них (грехи похоти, грех самолюбия, грех нелюбовности). Да я и просто говорю Кому-то и люблю это говорить: прости мне, как я говорил перед людьми, каясь. И говоря это, вспоминаю грехи других, самые мне противные, и прощаешь, не только прощаешь, не понимаешь, как можно сердиться, не прощать. И 5) боюсь искушений похоти, самолюбия, злости и бегу от них; но главное, главное зло в сердце — оно мешает. Его чтоб не было.
Вот так и молюсь гуляя, иногда даже в трудные минуты и будучи между людьми, и знаю так же, как знает машинист, прорезавш[ий] половину сугроба, но завязший все-таки, что если он проеха[л] половину большого сугроба, а маленький совсем переехал, то только п[отому], ч[то] разводил пары. Так знаю и я, что если бы я не молился, то был бы несравненно хуже. И знаю еще, что если бы я достиг того, возможность чего как будто вижу, когда молюсь, то жить бы незачем было. Знаю, что совершенным надо быть, как отец. — Ну вот. Пишу, что испытываю и как попало. Вы поймете. Ошибка главная в том, чтобы молитву делать обязательной. Мне она полезна. А могут быть люди, иначе устанавливающие свое отношение к богу. Вера для меня же только одна, и в одно я верю: в то, что отец,21 22 пославший меня сюда, добр — любовь. И наваливаюсь на него, а он делай, что хочет, и всё будет не то что хорошо, а божественно.
Л. Т.
Сколько вас знаю, думаю, что вам нужна молитва — как выражаемое сознание своего отношения к богу. Одно советую: ищите своего выражения отношения к б[огу]. Я всегда искал и ищу своего. В «Отче наш» я впадаю невольно.
Молитва — это символ веры — profession de foi.1 Таков «Отче наш», и повторить себе ясно, сжато, сильно всю сущность своего отношения к б[огу] дает силу.
Впервые опубликовано неточно в Б, III, стр. 171—173. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 14 февраля (см. т. 51, стр. 19).
Ответ на два письма Бирюкова: одно несохранившееся и другое от
6 февраля 1890 г., в котором Бирюков спрашивал, необходима ли для христианина молитва.
1 [исповедание веры.]
18. В. Г. Черткову от 17 февраля 1890 г.
* 19. H. Н. Ге (сыну).
1890 г. Февраля 10—18. Я. П.
Спасибо, что написали,1 милый друг Колечка. Долго очень ничего не знал про вас и часто думал и боялся, а теперь вдруг со всех сторон: и отец рассказал, и письмо к Черткову, которое он мне прислал,2 и ваше письмо. Я говорю «боялся». Это не то, что боишься, а дорожишь очень жизнью, как в себе, так и в других. За не зажженную свечку не боишься, а за зажженную, и не потому, что огонь ее не настоящий, а потому, что таково свойство огня, что он может потухать и разгораться. В вашей переписке с Чертковым я на вашей стороне,3 если только вы в разных сторонах, чего я не допускаю, — на вашей стороне в том, что нельзя достаточно стремиться к осуществлению в своей жизни своего сознания. Чем больше осуществление, тем лучше не только для себя, но и для людей, и для бога. Всякое осуществление, кроме удовлетворения своей совести, прокладывает путь, облегчает его людям. Но я уверен, что вы согласны и с общим смыслом того, что я пишу в этом прилагаемом письме одному Воробьеву,4 который хочет бросить службу на железной22 23 дороге, перейти на землю и, узнав из газет, что в Ясной Поляне был будто бы бал, упрекает меня в этом. В этом письме я хотел бы прибавить еще то, что касается меня и касается вас. Меня — вот что.
Нынче ночью меня разбудил в спальне плеск воды в тазу. Я окликнул жену, думал, что это она моется. Она же спала. Это была мышь, которая попала в таз и билась, чтобы вылезть оттуда. С мышами уж прежде было такое столкновение, которое заставляло задумываться. Поймается мышь в мышеловке, которую ставлю не я. Я беру ее вынести и хочу выпустить на дворе. Жена говорит: нет, лучше не трогай, я сама вынесу и велю убить. Я оставляю, зная, что мышь убьют. Но нынче, когда я лежу и хочу заснуть и слышу, как бьется, утопая, это маленькое существо, я увидал, что это нельзя и что я дурно делал, когда позволял убивать мышь, когда мог спасти ее, я увидал, что я это делал не для того, чтобы не нарушить любовь, а для того, чтобы избежать себе маленькой неприятности. Вот это и скверно в нашем положении: позволять гибнуть не мышам, но людям, потворствуя другим, избегая себе неприятности, и чем больше помнишь это, тем лучше. И потому люди, которые живут, как вы, делают хорошо не для себя одного, а для других, для меня, указывая нам, чего и как много чего нехватает в нашей жизни.
Кроме же того главное христианское учение, учение истины в своем приложении прошло все ступени сознания и словесного выражения и возбуждения религиозного чувства: всё это делано, переделано, и нового тут сказать и сделать нечего, но оно только начинает требовать настоящего жизненного приложения и вот тут-то оно — ученики этого учения, как норовистая лошадь с возом у горы, проделывают все возможные штуки и вправо, и влево, и назад, и на дыбки, только одного не делают — влечь в хомут и везти в гору, одного, что только нужно: исполнять учение, несмотря на напряжение труда, нечистоту, вшей, бедность, нужду. И потому нельзя делать достаточных усилий и жертв для того, чтобы из разговоров и чувств христианских перейти к делам, от верчения под горой перейти к первым шагам в гору, как вы делаете. Это я вижу всей жизнью своей. Но (теперь говорю о вас) жертвовать для перехода к делу от разговоров можно всем, только не тем, чем везешь, не гужами. Т. е. не нарушить любви, не сентиментальности, но доброжелательства к людям, любовной связью с людьми, с мышами23 24 даже, — с богом. И это в свободные от увлечений минуты совесть указывает ясно. А то я бросил всё мирское, живу по-христиански, а в душе у меня мысль о человеке, который ненавидит меня и от ненависти или хоть только нелюбви которого я страдаю, как было бы у меня, если бы я бросил жену. Но это вы знаете так же, как и я.
Другое же, и главное, вот что. Барышня раз пришла ко мне спрашивать, как ей жить по-хорошему.5 Я ей и говорю: живите, как вы считаете хорошим. А то если я вам скажу, то вы будете жить по моей совести, а это неудобно, надо каждому жить по своей совести и немного ниже ее. Жить самое лучшее так, чтобы было немножко ниже своей совести, с тем, чтобы догонять свою совесть в то время, как она вперед уходит, как фонарь, который несешь впереди себя на палке. Это самое лучшее. Тогда всегда человек недоволен собой, не отвечает требованиям своей совести, кается и идет вперед — живет. Жить много ниже своей совести дурно — отчаиваешься догнать ее и замираешь; жить выше ее нехорошо, потому что может случиться то, что с Петром с петухом,6 и что еще хуже, что если не отречешься, то дойдешь до своей совести и остановишься.
Вот этого чтобы не было с вами, милый, дорогой друг. Пишу это не потому, что замечаю это в вас — нисколько, а только потому, что это может быть. Целую вас, жену7 и детей. Я, поминая вас, как вы смеялись, дописал комедию, и совестно. Теперь много работ, хочется кончить,8 да нет энергии. Отца жду. Картину его очень полюбил.
Все вас любят наши. Л. Т.
Печатается по копии М. Л. Толстой. Одна фраза с искажениями под заглавием «Свеча» напечатана в «Спелых колосьях», 1, стр. 41. Три небольших отрывка, с многочисленными искажениями, добавлениями и пропусками, напечатаны, под заглавиями «Норовистая лошадь», «Барышня» и «Мышь», в «Спелых колосьях», 2, стр. 84, 85 и 100—101. Дата начала письма определяется упоминанием о нем в письме № 15 и записью в Дневнике Толстого 11 февраля (см. т. 51, стр. 17). Дата окончания письма взята с копии.
1 Это письмо Н. Н. Ге неизвестно.
2 В. Г. Чертков в письме от 20 января прислал Толстому два письма H. Н. Ге-сына (без даты).
3 См. об этом в письме № 60.24
5 Ср. запись в Дневнике Толстого 23 ноября 1888 г., т. 50, стр. 3.
6 По евангельскому преданию, апостол Петр трижды отрекся от Иисуса под страхом гонений за общую с ним веру.
7 Н. Н. Ге (сын) был женат на крестьянке Черниговской губ. Агафье Игнатьевне Слюсаревой (1856—1903).
8 См. письмо № 5. Кроме того, в феврале 1890 г. Толстой работал над «Послесловием» к «Крейцеровой сонате». См. записи в его Дневнике 30 января, 3, 4 и 5 февраля (т. 51, стр. 16—17).
20. Н. А. Немолодышеву.
1890 г. Февраля 18. Я. П.
Из вашего письма я заметил, что вас очень занимают те вопросы, о которых вы пишете, и еще то, что вы об этих вопросах имеете самое превратное или, скорее, не имеете почти никакого понятия, и потому скажу вам то, что я думал об этих вопросах. Может быть, это поможет вам разобраться в них.
Вы пишете, что не надо делать усилий. Какие усилия? Делать усилия в темноте для того, чтобы работать как можно лучше, очень неразумно; но еще неразумнее не делать усилий для того, чтобы зажечь свет.
Человеку свойственно делать — и даже никогда не переставать делать — усилия. Усилие просветить себя, не в смысле приобретения каких-нибудь случайных знаний, а в смысле познания закона своей жизни, познания того, что должно и чего не должно делать, — нравственного закона. И насколько просвещен в этом смысле человек, насколько больше он сделал усилий, чтобы просветить себя, настолько меньше усилий ему нужно будет для того, чтобы радостно и спокойно делать то, к чему влечет его природа.
И потому я совсем не согласен с вами в том, что «надо поменьше, и главное, попроще думать». Напротив, надо думать как можно больше и лучше. Лучше думать значит то, чтобы, думая о предмете, пользоваться всем тем, что думали и думают об этом предмете лучшие мыслители, точно так же, как, думая о том, как противодействовать запору, или о том, от каких микроорганизмов происходят какие болезни, надо пользоваться всем тем, что думали и думают о тех же предметах люди, занимающиеся этими, очевидно, далеко не столь важными вопросами, как вопрос о том, что должно и чего не должно делать человеку,25 26 вопрос о нравственном законе. Простота же мысли о предметах происходит от двух противоположных причин: от совершенного непонимания вопроса и от глубокого всестороннего изучения его. То, разумеется, надо думать просто по второй, а не по первой причине.
Да, милый друг, простите меня, если вам неприятно покажется то, что я пишу, но подумайте о том, что пишу. Я пишу только любя вас.
Думать (и много самому с собой, а не с людьми, не перед людьми), думать надо об этом, не только главном, но единственном стоющем такой думы предмете, о том, как провести свою жизнь? Ошибиться в лекарстве, в операции — никакой беды нет для того, кто подвергается этой ошибке, умрет, но вся жизнь его останется, какою была. Ошибиться же в руководстве своей жизни ужасно, потому что вся жизнь погублена. А смерть придет сама собой.
Печатается по машинописной копии из AЧ. В ГМТ хранится черновик письма, написанный рукой Толстого, с некоторыми разночтениями. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 30. Дата копии.
Никита Арсеньевич Немолодышев — врач. В 1888 г. состоял земским врачом в Данковском уезде Рязанской губ. и затем в Туле; в 1889—1890 гг. работал в Петербурге. С Толстым познакомился через врача H. Е. Богоявленского (о нем см. т. 63, стр. 192). Толстой писал Немолодышеву 31 декабря 1888 г. и в январе или начале февраля 1890 г. Письма эти неизвестны.
В данном письме Толстой отвечает на письмо Немолодышева из Петербурга, без даты, с почт. шт. «СПб. 14 февраля 1890», в котором Немолодышев, описывая свои впечатления от «собрания» в складе «Посредника» и от своего разговора с П. И. Бирюковым, между прочим замечал, что «стараться работать, силиться быть (не казаться, конечно) хорошим человеком — в этом ничего нет хорошего, лучше быть самим собой», и что «усилие не есть добро».
В Дневнике 17 февраля 1890 г. Толстой, отметив получение письма Немолодышева, набросал конспект своего ответа. См. т. 51, стр. 20.
* 21. Л. Л. Толстому.
1890 г. Февраля 21. Я. П.
Вот я и пишу тебе. Ты как будто нарочно сказал такое словечко, которое меня вызовет: о том, что ты хочешь бросать занятия. Не делай этого. Мало того, что не делай этого, не ослабляй26 27 своего напряжения к занятиям, не ослабляй, а увеличивай сознание нравственного долга продолжать занятия. А то все самые важные шаги в жизни ведь этак-то и делаются. Важные шаги делаются не с треском, заметно, а именно так — нынче не пошел, завтра не сел за работу, сказал: всё равно, а глядь через месяц, два уже сидишь в безвыходном положении — нет выбора, надо выходить. А выходить значит употребить свое время иначе. А как его употреблять-то иначе? С Фомичем1 и Бибиковым2 на охоту и т. п. Оно правда, что если у тебя это намерение кончить курс завинчено только в верхние планки людского мнения и самолюбия, то их легко отодрать и оно отстанет. Крепко будет только тогда, когда прихватишь винтами за сознание долга перед своей совестью и богом. И потому если не довинчено, винти. Я тебе отвертку дам, коли твоя не берет. Ну вот. А то это-то апатия: зачем ходить? к чему? да что? Это начало гниения. А коли запустишь и глубоко загниешь — шабаш.
У нас хорошо, даже очень хорошо живется. Если бы на что я мог жаловаться, так это на то, что хочется очень многое написать, а нет той свежести головы, при которой знаешь, что не испортишь, — и ничего почти не пишу. Но утешаюсь тем, что это и не нужно. Нужно жить получше. Ну вот и стараюсь. И ты старайся. А когда будешь стараться, тогда и решишь, выходить или не выходить. А пока нет светлого бодрого настроения, ничего не решай, а только старайся приходить в такое настроение.
Печатается по копии (неполной) рукой И. М. Трегубова из рукописной тетради П. И. Бирюкова: «№ 12. Письма к разным лицам [18]89—[18]90», стр. 27—29. Дата поставлена по машинописной копии из AЧ, воспроизводящей всего лишь четыре фразы письма.
Лев Львович Толстой (1869—1945) — третий сын Толстого. О нем см. в т. 63, стр. 199—200. Осенью 1889 г. Л. Л. Толстой поступил на медицинский факультет Московского университета, который к следующему учебному году оставил, перейдя на филологический факультет.
1 Михаил Фомич Крюков, слуга в семье Толстого.
2 Владимир Александрович Бибиков, сын старинного знакомого Толстого, владельца соседнего с Ясной Поляной имения Телятинки, Александра Николаевича Бибикова (1822—1886).
* 22. Д. А. Хилкову.
1890 г. Февраля 21. Я. П.
21 февраля 90.
Как вы живете, Дмитрий Александрович? Всё чаще и чаще вспоминаю о вас и хочется узнать про вас, общения душевного хочется. Материально живы ли, здоровы ли вы с женой1 и ребенком?2 Что ваши товарищи? Что знаете про Джунковских?3 —
4Мы живем нынешнюю зиму в деревне. Мне меньше суеты, да и думается, что недолго остается жить, и вот всё хочется написать всё то, что кажется нужным людям и неизвестно им. И потому больше пишу, чем в городе. Результаты же этого пока еще очень слабые — всё нездоровится и нет нужной ясности мысли. — С другой же стороны думаю, что всего, что хочется, никогда не напишешь, и что будет 80 лет [и] всё так же будет казаться, что вот-вот надо написать, а сил нет. Так что я знаю хорошо, что дело вовсе не в том, чтобы писать, а в том, чтобы пока жив делать наилучшим образом то, на что годен, и то, чего от тебя требуют люди и бог. — Я до сих пор не могу вполне победить в себе эту вечную и общую людям ошибку — желание совершить что-либо, забывая то, что совершить нам в жизни ничего нельзя, п[отому] ч[то] жизнь наша не есть что-либо цельное, законченное, а только частица видимая чего-то бесконечного и невидимого, но сознаваемого. Совершить мы ничего не можем. Всё, что можем, это только до последнего издыхания делать то, что велит бог или совесть. Так что если жизнь наша и может получить характер чего-то полузаконченного, то для других, а не для нас самих. Мы же сами никак не можем знать, что выходит и выйдет из того ряда поступков, к[оторые] мы производим. —
Что Любич?5 И его жена? Чертков был у нас. Он приезжал из Петерб[урга], где живет, п[отому] ч[то] родные его жены потребовали этого для ее здоровья. Они слабы здоровьем, но крепки духом — и не крепки, ce n’est pas le mot,6 а нет в них хитрости, обмана перед самим собой, — а тянут к богу, как умеют. Я их люблю, особенно его. Бирюков там же. Они кончают дела Посредника.7
8Знаете ли вы книгу и статьи Балу, Adin Ballon, американец, 50 лет тому назад проповедовавши[й] непротивление, non resistance, и написавший прекрасные про это статьи. Они переводятся,28 29 но если у вас нет, то я вам пришлю. Он жив еще, ему за 80 лет, и мы с ним вступили в переписку.9 К сожалению, он держится некот[орых] церковн[ых] догматов и в практике защищает собственность, но спорить с ним бесполезно.
В числе многих людей, с к[оторыми] сходился, меня особенно порадовали молокане Нижегородск[ого] села Богородского. У них есть 30-лет[ний] человек, руководитель Желтов.10 — Он на-днях был у нас (хотя я его давно знаю). Это один из молокан, совершенно свободный от догматики и внешности и очень искренний и настоя[щий], умный и способный. —
Ну прощайте. Напишите, что придет в голову и занимает вас теперь, чтоб мне почувствовать вас и нашу связь, к[оторая] мне дорога. Н. Н. Ге в Петерб[урге], и я его жду каждый день. Я думаю, он заедет к вам.
Л. Толстой.
Дмитрий Александрович Хилков (1857—1914) — бывший князь и гвардейский офицер, крупный помещик Полтавской губ., отказавшийся от своих имений и привилегий, сочувствовавший взглядам Толстого. См. т. 64, стр. 134.
1 Цецилия Владимировна, рожд. Винер (1860—1922).
2 Старший сын Хилкова Борис Дмитриевич (р. 1889).
3 Джунковские — Елизавета Владимировна, рожд. Винер (1862—1928), сестра жены Д. А. Хилкова, и ее муж Николай Федорович (1862—1916), двоюродный брат Д. А. Хилкова. О Е. В. Джунковской см. т. 63, стр. 360, о Н. Ф. Джунковском см. т. 64, стр. 210.
4 Абзац редактора.
5 Ефим Николаевич Любич (1867—1926). См. т. 64, стр. 276. Жена его Федосья Павловна (ум. 1921).
6 [это не то слово,]
7 Чертков передавал в то время все дела «Посредника» П. И. Бирюкову и И. И. Горбунову-Посадову, оставив за собой только зарождавшийся тогда отдел этого издательства «Для интеллигентных читателей».
8 Абзац редактора.
9 См. письмо № 26.
10 О Ф. А. Желтове см. письмо № 55.
23. А. И. Аполлову.
1890 г. Февраля 22. Я. П.
Хотя и обещал писать вам, Александр Иванович,1 я боюсь, что в коротком письме не сумею выразить ясно мое отношение к тем предметам, о которых вы говорите.29
30 Я понимаю, что в вашем положении, так много переиспытав от иерархии, вы видите в них врагов, с которыми надо бороться; но мне наша иерархия никогда не представляется таким врагом. Враг истины есть невежество суеверия; выросшие же на этом невежестве церкви, и наша, и католическая, и протестантская иерархия, суть грибы, растущие на этом навозе. Покуда будет невежество, будут иерархии, попы, папы, мощи, причастия, семинарии, академии, догматы, троицы и воскресения и всей этой ужасной богословской хулы на св. духа.
И потому надо уничтожать не грибы, а тот навоз, на котором они растут. Его надо вычищать, т. е. рассеивать невежество. Рассеивать же мрак невежества есть только одно средство — это свет истины учения Христа. Это самое я и стараюсь делать, и теперь делаю. Если бы можно было, нажав одну пуговицу, мгновенно уничтожить (не убивая, а лишив их возможности проповедовать) всех попов, я бы не нажал ее, потому что завелись бы новые, худшие. До тех пор, пока есть почва для этих суеверий и невежества, не только среди неученых, но и среди, ученых классов (пример — спиритизм), будут и эти наросты. Как ни верти, дело для всякого христианина одно — проповедовать истину не словом только, но всею жизнью. — Вы говорите об успехах эпископата в создании приютов развращения, молодого поколения, я прибавлю: и народа. Правда, что по. внешности успехи мракобесия в это царствование кажутся большими; но это только кажется. В сущности же едва ли в какое-нибудь время происходило такое сильное рационалистическое движение, как в последние 6, 7 лет. В народе распространяются и порождаются со всех сторон рационалистические учения. В семинариях и академиях среди лучшей части учеников происходит движение, совершенно обратное тому, которое увеличивается давлением.
Я написал уже более 10 лет тому назад Критику Догматического Богословия2 Макария3 и исследование Евангелия.4 (Книги эти, как я узнал на-днях, печатаются в Женеве у Элпидина5), и книги эти, в особенности первая, чрезвычайно распространены между семинаристами. Но сила не в этих книгах, и ни в каких книгах; сила главная в христианской жизни, в попытках осуществления жизни по учению истины. Славословия, толкования, молитвы, таинства, споры, определения, храмовые служения, всего этого уже было достаточно во всех,30 31 возможных видах и всем уже набило оскомину. Теперь перед христианским человечеством стоит уже в упор другая задача осуществления в жизни христианского мировоззрения, вопросы собственности, войны, наказания, власти, проституции... И вот уже лет 20 последних заметно, как человечество, уткнувшись в эти вопросы, как норовистая лошадь у подъема, кидается и вправо, и влево, и на дыбки, а не делает одного, что нужно — влечь в хомут и по мере сил тянуть в гору.
Это начинается, мне кажется. Начинают, кажется, люди делать попытки приложения к жизни того, что они исповедуют. Вот что занимает меня и на что я намерен посвятить оставшуюся мне, очевидно очень небольшую, частицу своей жизни.
По тону вашего письма надеюсь, что вы будете согласны в этом со мной. Братски приветствую вас.
Печатается по копии рукой В. Г. Черткова из АЧ. Полностью опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 33—34. Дата копии.
Александр Иванович Аполлов (1864—1893) — ставропольский священник, в октябре 1889 г. подавший прошение о снятии с него сана. Однако вскоре под давлением церковной администрации и семейных Аполлов отказался от своего заявления и продолжал священствовать до 1892 г., когда окончательно порвал с церковью. Автор нескольких обличавших духовенство статей и заметок, помещенных в ставропольской газете, а также нескольких рассказов и легенд. См. Б. А. Аполлов, «Письма Л. Н. Толстого к А. И. Аполлову» — «Русское прошлое», изд. «Петроград», 1923, 3, стр. 140—143. См. также тт. 50 и 66.
Письмо Аполлова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 В копии ошибочно: Николаевич
2 «Исследование догматического богословия», написано Толстым в 1880—1881 гг.
3 Макарий — Михаил Петрович Булгаков (1816—1882), московский митрополит и церковный писатель; автор «Догматического богословия» в пяти томах.
4 «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий» написано в 1880—1882 гг.
5 Михаил Константинович Элпидин (1835?—1908), женевский издатель запрещенных в России книг; русский революционер, бежавший в 1865 г. из-под ареста, переселившийся в Швейцарию и принявший швейцарское подданство. Издал и распространил при помощи П. И. Бирюкова много запрещенных произведений Толстого.
24. Н. В. Рейнгардту.
1890 г. Февраля 22. Я. П.
Очень благодарен вам за присылку вашей книжки о Фрее.1 Это один из самых замечательных людей нашего времени. Мне очень хотелось написать о нем, но до сих пор не удосужился. Желаю как можно более широкого распространения вашей статьи. Сколько мне помнится, я отвечал на его письмо, но этого моего ответа у меня нет.2 После этого я виделся с ним два раза в деревне у нас и в Москве. Кроме того глубокого уважения, которое он возбуждал к себе своей жизнью, бывшей полным осуществлением его убеждений, он вызывал еще к себе любовь своей добротой и любовностью. Помню, в Ясной Поляне мы спорили. Я жестоко возражал ему, и, когда он вышел из комнаты, я опомнился и устыдился своего недружелюбного тона. Когда он вернулся, я сказал ему, что мне совестно за свою горячность, что я прошу его извинить меня. Я не успел договорить, как он уже со слезами на глазах обнял и поцеловал меня. Я многим ему обязан и всегда с умилением вспоминаю об этом святом человеке.
Печатается по машинописной копии. Отрывок с датой «1890» опубликован Н. В. Рейнгардтом в его статье «Из истории 60 годов. Необыкновенная личность (Вильям Фрей)» — «Наука и жизнь» 1905, 4, столб. 1193; полностью в сборнике «Летописи», 12, стр. 32. Дата копии.
Николай Викторович Рейнгардт (1842— ум. после 1905) — присяжный поверенный в Казани, сотрудник (псевдоним «Фигаро») и редактор-издатель газеты «Волжский вестник», сотрудник «Казанского биржевого листка» и журнала «Наука и жизнь»; последователь О. Конта; автор многих статей по вопросам социологии и права. О Толстом напечатал брошюру: «Воскресение» гр. Л. Н. Толстого и вопросы уголовного права», Казань 1903.
В письме от 14 февраля 1890 г. извещал Толстого, что посвящает ему свою книгу о В. Фрее «Необыкновенная личность» (Казань 1889), и просил сообщить личные впечатления Толстого о В. Фрее, которые Рейнгардт думал использовать для второго издания своей книги.
1 Владимир Константинович Гейнс (1839—1888), русский по происхождению, в 1868 г. эмигрировавший в США и принявший американское подданство и имя Вильям Фрей; один из организаторов в Америке земледельческих интеллигентских ферм — «коммун»; последователь О. Конта. См. тт. 63, стр. 340 и 341.
2 Письмо Толстого к В. Фрею от 1—31? марта 1886 г. см. в т. 63, стр. 339—340. Письма В. Фрея к Толстому напечатаны в брошюре: «Письма В. Фрея к Л. Н. Толстому», Genève, M. Elpidine, 1887.
* 25. Ф. П. Симону.
1890 г. Февраля 22. Я. П.
Я вас очень помню и вспоминал про вас и рад очень получить известие о вас, хоть и грустное.
Друг мой! Помощь человека недействительна, бессильна в том, в чем вы ищете помощи, — в вере; в вере помочь может только бог, т. е. установление отношений прямо непосредственно с богом. Только отрешившись, отвернувшись от всех людей и обратившись к одному богу, можно установить отношение к нему, т. е. веру. Верите ли вы — не в то, что есть бог-творец, троица, И[исус] Х[ристос] и т. п., — а в то, что в жизни вашей есть смысл и что смысл этот зависит от того благого и разумного начала, от которого вы произошли? Если верите, то вам ничто не может быть страшно или тяжело. Мф., XI, 28—30. Если же не верите, то ищите этой веры, и опять так же, как Христос отвечал ученикам, просившим его утвердить их в вере. Он отвечал им притчей о хозяине, пришедшем с работниками с поля. О том, что неверие происходит от того, что работник ложно понимает свое значение: если работник будет думать, что, приехав с поля, хозяин сейчас посадит его за стол и велит есть, то, когда это не сбудется, он будет не верить. Верить же работник будет тогда, когда он, ничего не ожидая, будет продолжать служить хозяину, отпряжет волов, даст им корму, будет служить хозяину за столом, тогда он будет верить. Коротко выражаясь, я хочу сказать: 1) то, что для того, чтобы жить, надо верить; 2) то, что верить значит не то, чтобы доверять всему тому, что мне выдают за истину о мире, о боге и т. п., а значит верить в то, что сила, произведшая и пославшая меня в этот мир, есть сила благая и разумная и 3) то, что для того, чтобы верить в это, надо не то чтобы в чем-либо уверять себя, а напротив, надо ничего о себе не думать, а только исполнять всё то, что требует от тебя хозяин или твоя совесть в жизни: самые простые дела. Исполнять эти самые простые дела, т. е. любовно отвечать на предъявленные к тебе требования и ничего о себе не думать, ничего себе не ожидать. Вы говорите: апатия! Ну что же апатия. Сидеть и ждать, пока она пройдет, зная, что это так должно быть. Как ни странно это кажется: гордость производит неверие, а смирение веру. Стоит человеку сказать себе в какой бы то ни было момент, вот в вашем теперешнем положении:33 34 я не по своей воле явился сюда, я явился такой, какой есть, со всеми моими слабостями и пороками. Я не люблю своих пороков и себя не люблю и ничего для себя не хочу; а пусть со мной делает тот, кто меня послал, что он хочет. Чего же он хочет? И стоит искренно, отрекшись от себя, прислушаться к тому, чего он хочет и не брезгать никаким делом, и сейчас найдется дело нужное хозяину, вступив в которое будешь знать, что ему служишь. А не найдется дело, значит хозяин пока не хочет, но я готов и не перестаю чувствовать себя на службе хозяина. А сознав это, сознаете радость жизни и найдете покой душам вашим.
Печатается по машинописной копии «К неизвестному». Дата копии.
Федор Павлович Симон (р. 1861) — в 1890 г. помощник лесничего в Бирском уезде Уфимской губ. Летом 1886 г., будучи студентом Лесного института в Петербурге, приезжал в Ясную Поляну, познакомился лично с Толстым и около трех месяцев прожил в деревне Ясная Поляна, работая с крестьянами. Судя по статье Тенеромо (И. Б. Файнермана) «Шпион» в его книге «Живые слова Л. Н. Толстого», М. 1912, стр. 164—168, Симон якобы был подослан к Толстому, о чем он, раскаявшись, писал Толстому в не дошедшем до нас письме. Но в статье Б. Н[иколаевского] «Свод разновременно поступивших указаний на вредное в политическом отношении направление писателя Льва Толстого» («Былое» 1918, 9, март, стр. 209—210) указывается, что в охранном отделении в 1887 г. было заведено дело о Симоне за № 87, к которому пришита выписка из письма Симона к Толстому от 25 января 1888 г., «свидетельствующая, что Симон не скрывал перед Толстым своего революционного направления».
Ответ на письмо Симона без даты (почт, шт.: «Бирск, 9 февраля 1890») с вопросами религиозного характера.
* 26. Адину Баллу (Adin Ballou).
1890 г. Февраля 21—24. Я. П.
Dear friend and brother,
I will not argue with your objections — it would not bring us to anything.
Only one point which I did not put clearly enough in my last letter I must explain to avoid misunderstanding. It is about compromise. I said that compromise, inevitable in practice, cannot be admitted in theory. What I mean is this: Man never attains perfection but only approaches it. As it is impossible to trace in reality a mathematically straight line and as every such34 35 line is only an approach to the latter, so is every degree of perfection attainable by man — only an approach to the perfection of the Father, which Christ showed us the way to emulate. Therefore, in reality, every deed of the best man and his whole life will be always only a practical compromise — a resultant between his feebleness and his striving to attain perfection. And such a compromise in practice is not a sin, but a necessary condition of every Christian life.
The great sin is the compromise in theory, is the plan to lower the ideal of Christ in view to make it attainable. And I consider the admission of force (be it even benevolent) over a madman (the great difficulty is to give a strict definition of a madman) to be such a theoretical compromise. In not admitting this compromise I run the risk only of my death or the death of other men who can be killed by the madman; but death will come sooner or later, and death in fulfilling the will of God is a blessing (as you put it yourself in your book); but in admitting this compromise I run the risk of acting contrary to the law of Christ — which is worse than death.
It is the same with property. As soon as I admit in principle my right to property, I necessarily will try to keep it from others and to increase it, and therefore will deviate very far from the ideal of Christ.
Only when I profess daringly that a Christian cannot have any property — will I in practice come near to the ideal of Christ in this instance. There is a striking example of such a deviation in theory about anger in Matth., V, 22, where the added word είχη̃ («without any cause») have justified and still justify now every intolerance, punishment, and evil, which have been and are so often done by nominal Christians. The more we keep in mind the ideal of a straight line as the shortest distance between two points the nearer we will come to trace in reality a straight line. The purer we keep the ideal of Christ's perfection in its; unattainableness, the nearer we will in reality come to it. —
Allow me now to argue upon several dogmatical differences of opinion: about the meaning of the words «Son of God», about personal life after death, about resurrection. I have written a large work — the translation, concordance and explanation of the Gospels in which I exposed all I think on those subjects. Having at the time — ten years ago — given all the strength35 36 of my soul, for the conception of those questions, I cannot no change my views without verifying everything anew. But the differences of opinion on those subjects seem to me of little consequence. I firmly believe that if I consecrate all my powers to the fulfilment of the Master’s will which is so clearly expressed in his words and in my conscience, nevertheless should I not guess quite rightly the aims and plans of the best for me.
I would by very grateful to you should you send me a line from yourself. Please give my love to Mr. Wilson. 1
One of your tracts is very well translated into Russian and is propagated amond some believers, and highly appreciated by them.
With deep veneration and tender love, I remain
your brother and friend
Leo Tolstoy.
Дорогой друг и брат,
Я не стану возражать на ваши возражения — это ни к чему не привело бы нас.
Однако недостаточно ясно высказанное в моем последнем письме я должен объяснить во избежание недоразумения. Это — о компромиссе. Я сказал, что компромисс, неизбежный на практике, не может быть допускаем в теории. Я разумею вот что: человек никогда не достигает совершенства, но только приближается к нему. Как невозможно в действительности начертить математически прямую линию и как всякая линия есть только приближение к прямой, так и всякая степень совершенства, достигаемая человеком, есть только приближение к тому совершенству отца, путь к которому нам указал Христос. Поэтому в действительной жизни всякий поступок лучшего человека и вся его жизнь всегда будут только практическим компромиссом — взаимодействующей между его слабостью и его стремлением к достижению совершенства. И такой компромисс на практике — не есть грех, но необходимое условие всякой христианской жизни.
Великий грех же есть компромисс в теории, намерение понизить идеал Христа, с целью сделать его осуществимым. И я считаю, что таким теоретическим компромиссом является допущение насилия, хотя бы даже доброжелательного, над сумасшедшим (очень трудно дать точное определение сумасшедшего). Не признавая этого компромисса, я рискую лишь жизнью своей или других людей, которые могут быть убиты сумасшедшим; но смерть придет рано или поздно, а смерть за исполнением воли божьей есть благословение, как вы сами говорите в вашей книге. Но допуская этот компромисс, я рискую поступать противно закону Христа, что хуже смерти.
То же самое с собственностью. Как только я признаю в принципе мое право на собственность, я неизбежно буду стараться удержать ее от других, а также увеличивать ее, и потому очень далеко отклонюсь от идеала Христа.36
37 Только в том случае я приближусь на деле к идеалу Христа, если я смело буду исповедовать, что христианин не может иметь какую-либо собственность. Разительным примером такого отступления в теории являет стих 22 V главы Матфея о гневе, где прибавленное слово είχη̃ («напрасно») всегда оправдывало и до сих пор оправдывает всякую нетерпимость, наказание и зло, так часто творимые так называемыми христианами. Чем больше мы будем хранить в памяти идеал прямой линии, как кратчайшего расстояния между двумя точками, тем ближе мы подойдем к проведению прямой линии в действительности. Чем чище мы сохраним идеал совершенства Христа в его недостижимости, тем ближе подойдем к нему в действительности.
Позвольте мне не возражать на некоторые догматические разногласия в наших мнениях о смысле слов «сын божий», о личной жизни после смерти, о воскресении. Я написал большую книгу — перевод, соединение и толкование Евангелий, — в которой я изложил всё, что думаю по этим вопросам. Положив в то время — десять лет тому назад — всю силу моей души на познание этих вопросов, я теперь не могу ничего изменить, не проверив всего заново. Но различие взглядов на эти понятия представляются мне малозначительными. Я твердо верю, что если я посвящу все мои силы на исполнение воли Хозяина, так ясно выраженной в его словах и в моей совести, — хотя бы я и не вполне верно представлял себе цели и намерения Хозяина, которому я служу, — он меня не оставит и устроит всё к моему благу.
Буду вам очень благодарен, если вы напишете мне хоть несколько слов. Пожалуйста, передайте мой сердечный привет г-ну Вильсону.1
Один из ваших трактатов очень хорошо переведен на русский язык, распространяется среди некоторых единомышленников и очень ими ценится.
С глубоким уважением и нежной любовью остаюсь ваш брат и друг
Лев Толстой.
Печатается по машинописной копии. В России публикуется впервые. В Америке напечатано почти полностью в журнале «The Arena» 1890, XIII, декабрь, стр. 10—11. В распоряжении редакции имеется машинописный экземпляр: «Correspondence between count Leo Tolstoy, Rev. Adin Ballou and Lewis G. Wilson and V. Tchertkoff» («Переписка между графом Львом Толстым, пасторами Адином Баллу и Льюисом Г. Вильсоном и В. Чертковым») с небольшим предисловием Л. Вильсона. Копия эта получена редакцией в 1929 г. через бостонского нотариуса Ромнея Спринга (Romney Spring), писавшего, что автографы писем Толстого к Баллу не обнаружены, но что присылаемый им экземпляр копий сделан по копиям Л. Вильсона, собравшего их в книгу, сохранившуюся у его сына Джона-Генри Вильсона.
Дата копии «21 февраля 1890» указывает день написания первоначального русского варианта, содержащего некоторые разночтения с копией рукой М. Л. Толстой (тетрадь 6, стр. 38—41). Окончательная версия письма датируется по записи в Дневнике Толстого 24 февраля (см. т. 51, стр. 22).37
38 Адин Баллу (Adin Ballou, 1803—1890) — американский пастор, выступавший против рабства негров в США, проповедник «христианского непротивления», автор многих статей и брошюр о христианстве, церкви, государстве, войне и т. п.
Толстой узнал о Баллу из письма от 21 июня нов. ст. 1889 г. единомышленника Баллу Л. Вильсона, приславшего Толстому книгу Баллу «Christian non-resistance» («Христианское непротивление»), о которой Толстой подробно говорит в первой главе своего трактата «Царство божие внутри вас». Толстой ответил Вильсону 22 июня 1889 г. (т. 64, стр. 270—273), возражая в письме на некоторые места книги Баллу; последний, в свою оче редь, в письме к Толстому от 14 января нов. ст. 1890 г. отстаивал свои взгляды. На это письмо Баллу и отвечает Толстой.
1 Льюис-Гильберт Вильсон (Lewis Gilbert Wilson, 1858— около 1921), унитарианский пастор, близкий по взглядам к Баллу; служил в Хопдэйле в 1885—1905 гг.
* 27. H. Н. Ге (отцу). Черновое.
1890 г. Февраля 24—25. Я. П.
Петербург. Лиговка 31. Николаю Ге.
Буду дома только второго марта.
Толстой.
Черновик телеграммы, написанный и перечеркнутый в начале рукописи № 8 «Послесловия» к «Крейцеровой сонате» (см. т. 27, стр. 637). Дата определяется записями в Дневнике Толстого об его поездке в Оптину пустынь и фразой в конце записи 25 февраля в том же Дневнике, сделанной в г. Одоеве: «Получил письмо от Ге»(т. 51, стр. 22—23). В начале телеграммы адрес книжного склада «Посредник».
Ответ на не дошедшее до нас письмо художника Н. Н. Ге.
28. В. Г. Черткову от февраля 1890 г.
* 29. В. В. Майнову.
1890 г. Марта 3. Я. П.
Я не отвечал вам п[отому], ч[то] в вашем письме о колонии так много — пожалуйста, не сердитесь на меня за то, что вынужден сказать вам, что думаю — несообразностей, происходящих от совершенного непонимания того, о чем говорится, что отвечать нельзя. — Вообще же об этом предмете я думаю так:38 39 цель человека, желающего жить по закону Христа, состоит в исполнении открытого им закона; закон же его в том, чтобы любить бога и ближнего; любовь же к богу выражается в том, чтобы поступать с другими, как мы хотим, чтобы они поступали с нами; и поэтому человек, желающий жить по закону Х[риста], будет прежде всего исполнять это, а не будет заботиться об устройстве своей жизни и других людей в колониях. Христианин будет, исполняя свой закон, стремиться всегда к самой презираемой, но нужной людям работе, и такова работа на земле; и такова же работа в городе, чистка нужников, копание могил и т. п.; но то, что он достигнет этого положения или нет, будет зависеть от тех условий, в кот[орых] он находится. — И внешние условия жизни не только не надо искусственно устраивать, но надо всячески стараться избегать внешнего устройства, п[отому] ч[то] ничто так не убивает внутреннее, как внешнее, и ничто так не развивает лицемерие (самого страшного врага истины) лицемерие, гордость, неуважение к людям, как приписывание значения внешним формам жизни. — Это же относится к форме общения «ты и вы», как я вам писал в прежнем письме.1 Христианин прежде всего не должен делать различия между людьми или по крайней мере сознательно стремиться к этому, и в обращении, наименовании людей избегать внешних форм. Лучше всем говорить: ты, скотина и т. п., но всем, чем одним говорить: ты, брат; другим — ты, дурак; третьим — вы, Г-н N или Михаи[л] Иван[ович]; а четвертым — вы, ваше превосход[ительство] или величество. —
Так вот простите, пожалуйста, если письмо это огорчит вас. — Советую вам побольше читать, думать, избегая поспешных решений.
Любящий вас Л. Толстой.
Дата машинописной копии из A4.
О Владимире Николаевиче Майнове см. т. 64, стр. 305.
В письме от 11 января 1890 г. Майнов советовал Толстому «собрать побольше денег», организовать общину и жить в ней со своими единомышленниками и подробно описывал выгоды такой жизни. Не получив ответа, Майнов написал еще два письма такого же содержания (без дат, с почтовыми штемпелями: СПб., 29 января и 22 февраля 1890), на которые Толстой ответил настоящим письмом.
1 См. письмо Толстого к Майнову от 8 декабря 1889 г., т. 64, стр. 342—343.
30. С. Л. Толстому.
1890 г. Марта 8. Я. П.
Не думай, Сережа, что я к тебе отношусь иронически, как ты пишешь. Если я пошутил с С[ашей] Кузм[инским],1 то я только пошутил. Я стараюсь помнить и помню свою молодость, и надеюсь и даже почти уверен, что ты делаешь и делал меньше глупостей, чем я, даже относительно, т. е. пропорционально времени и условий, в к[оторых] я находился и ты находишься. Одно, что прежде меня сердило в тебе (прежде, теперь этого нет), это то, что ты, столь разумный и как бы практический в приобретении знаний научных и практических, умевший всегда пользоваться тем, что сделано прежде тебя людьми, не выдумывавший сам логарифмов и т. п. вещей, которые давно выдуманы, и знающий, куда обращаться за этими знаниями, ты в самом важном знании — что хорошо, что дурно и потому как жить, хочешь доходить своим умом и опытом, а не пользуешься тем, что давно, несомненно и очевиднее всякой геометрической теоремы, объяснено и доказано. —
Например, ты открыл, что непременно надо быть заняту, и ищешь себе занятия, но хорошенько не знаешь, чем именно тебе надо заниматься: банком, тюрьмами, хозяйством или уездн[ым] начальничеством Но и это не всё: почему не музыкой, не литературой, не фабрикой, не путешествиями и т. д.? Очевидно, что положение, что надо быть заняту, не имеет никакого значения и смысла, если не решено, чем надо быть заняту. И вот это-то давным-давно решено людьми, к[оторые] занимались этими вопросами. Заняту надо быть тем (au risque de te déplaire,2 должен повторить тебе то, что тобою давно по твоему мнению опровергнуто), заняту надо быть тем прежде всего в нашем привилегированном положении, чтобы слезть с шеи народа, на к[оторой] сидишь, и прежде чем делать что-либо по своему мнению полезное для этого народа, перестать утруждать его требованиями удовлетворения своих прихотей жизни, т. е. прежде всего делать то, что себе нужно. Сомнения тогда в том, что делать, не будет, и будет спокойная, радостная жизнь. Исключение из этого только тогда возможно, когда есть какое-либо исключительное призвание. Определить же то, что есть исключительное призвание, никогда не может тот, кто имеет или не имеет призвание, а другие люди, к[оторые]40 41 в случае такого призвания будут требовать того, чтобы человек отдавался своему полезному или радостному для других призванию.
Пожалуйста, голубчик, не спорь со мною. Я не для спора пишу, а не пригодится ли тебе. А попробуй обсудить то, что я говорю, как серьезно решают уравнения, т. е. предполагая вперед, что х (а х здесь твое положение) может быть и положительною, и отрицательною величиною, и нолем. А не так, чтобы, вперед решив, что х положительная величина, придумывать такие штуки, чтобы уравнение реши[л]ось и х б[ыл] бы положительная величина. —
Ведь ошибка в том, что мы, потомки людей и принадлежащие к кругу людей угнетателей, тиранов, хотим, не изменив своего пополнения, не признавая его преступность, сразу найти такое занятие, пользой которого мы бы выкупили все прошедшие и настоящие грехи. Надо раз навсегда признать свое положение, и это не трудно. А поняв это, очевидно, что, прежде чем думать
о пользе, приносимой народу (людям), надо перестать участвовать в его угнетении посредством землевладения, чиновничества, торгашества и др. И остается одно: как можно меньше брать с произведения труда людей и как можно больше трудиться самому. И это правило, как оно ни надоело, боюсь, тебе, таково, что оно приложимо к самому сложному, запутанному положению, в котором мы часто находимся. Во всяком положении можно стремиться к этому и всё более и более осуществлять. Никак нельзя извне, с поверхности определить свое положение. Но непременно надо изнутри, из середины, т. е. не решать: где мне лучше служить или жить, а решать: что я такое? чем я живу? какие мои отношения к людям и какие мои права я обязанности в отношении их. Ну вот, прощай. Целую тебя.
Смотри ж, любя прочти это письмо, так же, как я писал.
Впервые опубликовано в книге: C. Л. Толстой, «Очерки былого», Гослитиздат, 1949, стр. 184—186. Датируется на основании почтовых штемпелей.
Сергей Львович Толстой (1863—1947) — старший сын Л. Н. Толстого. См. т. 63, стр. 169—170.
1 Александр Михайлович Кузминский (1845—1917), муж сестры С. А. Толстой Татьяны Андреевны, рожд. Берс. Был в то время прокурором Петербургской судебной палаты.
2 [рискуя тебе не понравиться,]
* 31. П. И. Бирюкову.
1890 г. Марта 6—9. Я. П.
Спасибо Ругину,1 что он предложил мне написать вам. Я всегда с любовью помню вас и говорю «аминь» от всей души к тому, что он пишет. Радуюсь тому, что вы не забросили свое писанье.2 Дедушке3 оно понравилось. Начало злое выбросьте. Я чувствую себя виноватым, что не собираю вам матерьялов, и постараюсь это делать. Напр[имер], нынче в получаемом мною Сведенборгианском4 прекрасном журнале читаю: «Никогда еще в мире не было столько людей, проникнутых духом христианства, несмотря на то, что каждому исповеданию может казаться, что количество его последователей уменьшается».5 И много радостного встречаешь в этом роде. Я получаю журналы6 «New Christianity» сведенборг[ианский], «World's advanc[e] thought» полуспиритический, «Religio philosophical journal» спиритический, «Dawn», «Sоwer» христианского социализма, «Open Court», посвященный примирению науки и религии, «Ethical Record», посвященный нравственности — из религиозн[ых]. Не упоминаю еще о теозофических «Lucifer» и «Theosofical sifftings», в к[оторых] тоже есть кое-что. Некоторые из этих журналов присылаются постоянно, некоторые только несколько нумеров. Кроме этих, есть еще около десятка изданий, посвященных то вопросам всемирного мира, как «Peacemaker» и др., — то социализму. Если у вас есть кто знающий по-английски, я пришлю. Но нет. Эта работа, к[оторую] должен я сделать с дочерьми. И постараюсь. Мне всё хочется писать много; а что даст бог, не знаю. У нас дома мир и согласие всё больше и больше и с помощью любви к богу будет всем хорошо, т. е. и вам и Маше.
Л. Т.
Основание даты: написано во время пребывания И. Д. Ругина в Ясной Поляне 6—9 марта; в день написания письма Толстой читал журнал «New Christianity» (о чтении этого журнала 7 и 8 марта записано в Дневнике 9 марта, т. 51, стр. 24 и 26).
1 Об Иване Дмитриевиче Ругине см. прим. к письму № 76.
2 См. письмо № 5 и прим. 3 к нему.
3 Художнику Н. Н. Ге.42
43 4 Сведенборгиане — последователи шведского мистика Эммануила фон Сведенборга (Emanuel von Svedenborg, 1688—1772).
5 В яснополянской библиотеке не сохранился номер журнала «New Christianity», читанный Толстым 7 и 8 марта, из которого он приводит настоящую фразу.
6 Все перечисленные далее в письме Толстого журналы, по преимуществу американские, носят религиозный и сектантский характер. Некоторые из них сохранились в яснополянской библиотеке Толстого.
* 32. Л. Е. Душкину.
1890 г. Марта 15. Я. П.
Долго не отвечал на ваше письмо, потому что был болен. Когда получил, многое хотелось сказать вам; теперь забыл.
Помню одно: «иго мое благо, и бремя мое легко», — иго, а не подушка, — иго и бремя. Если оно вам кажется тяжелым, то только потому, что вы представляете себе, может быть, благо при полном отсутствии ига. Оно легко, но — иго. И вы наверное узнаете это, когда проживете подольше так, как вы живете.
А насколько я могу судить, вы живете хорошо, и помогай вам бог.
Печатается по копии рукой В. Г. Черткова. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 15 марта (см. т. 51, стр. 27).
Леонтий Евсеевич Душкин (1865—1898 или 1899) — слесарь-механик. Познакомился с Толстым в 1889 г.; несколько раз бывал у Толстого в Москве. См. т. 50, стр. 124.
Ответ на письмо Душкина из Петербурга от 25 февраля 1890 г., в котором Душкин писал о своих сомнениях, вызванных противоречием его жизни и взглядов.
* 33. А. А. Зеленецкому.
1890 г. Марта 15. Я. П.
Очень рад был получить ваше письмо и с удовольствием отвечаю на ваши вопросы.
В тех местах, где сказано «из мертвых», говорится о сыне человеческом; где же Христос говорит о себе, он говорит «восстанет». Так, мне помнится, я подтверждал то, что Христос43 44 никогда не говорил о своем воскресении из мертвых, и, сколько помню, я объяснял все места удовлетворительно в этом смысле.
Теперь же откровенно скажу вам, что буква, слова не интересуют меня, и я часто сожалею, что придавал её слишком большое значение и делал, увлекаясь своими гипотезами, натяжки в толкованиях буквы. И потому во всяких ошибках и толкованиях буквы охотно соглашаюсь. Дух же учения не нуждается в толковании и не может измениться ни от каких толкований. Если бы и даже мог предстать мне вопрос о том, воскрес ли Христос или нет, я бы никак не мог заставить себя интересоваться им. Воскрес ли он или нет, от этого не могут измениться мои обязанности перед Отцом; даже и то, воскресну ли я (если бы можно было серьезно задать себе такой вопрос), не может иметь для меня ни малейшего значения, п[отому] ч[то], если мне суждено воскреснуть, то то, что я знаю или не знаю этого, не может изменить того, что должно быть.
Изменить мое состояние может только направление моей жизни, то, в чем я полагаю благо; благо же в исполнении воли Отца, и потому во всяком случае мне нужно и важно знать только одно: в чем относительно меня воля Отца. И вот это-то с поразительной ясностью выражено Христом в слове и Отцом в наших сердцах; и вот это было заглушено метафизически-богословскими толкованиями, и вот эти наросты мне так хотелось счистить, что, может быть, я погрешил где против формальной правды, погрешил невольно.
Это один вопрос.
Другой ваш вопрос: «что мне делать на моей должности?» Могу ответить только самым общим, а вместе и самым точным ответом: исполнять волю Отца, выраженную в Евангелии. Не изменять рассудочно своего положения внешнего, а всеми силами разжигать в себе свет истинного разумения, и в свете этом действовать. Действовать в тех условиях, в которых находишься, пока это возможно, не противоречит совести. Не выходить из службы, а на службе служить прежде богу, а потом начальству, и ждать того, чтобы выгнали, если это нужно, не желая и не боясь этого.
Печатается по рукописной копии с поправками рукой В. Г. Черткова. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 15 марта (см. т. 51, стр. 27).44
45 Алексей Алексеевич Зеленецкий — кандидат Петербургской духовной академии, помощник смотрителя духовного училища в г. Бугуруслане; обратился к Толстому с письмом (без даты), в котором писал о своем впечатлении от чтения книги Толстого «В чем моя вера?».
34. В. С. Соловьеву и Э. М. Диллону (E. J. Dillon).
1890 г. Марта 15. Я. П.
Очень благодарю вас, Владимир Сергеевич и г-н Диллон, за то, что вы предлагаете мне и даете случай участвовать в добром деле.
Я всей душой буду рад участвовать в этом деле и вперед знаю, что если вы, В[ладимир] С[ергеевич], выразите то, что вы думаете об этом предмете, то вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же — сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан. — Вам это естественно написать, потому что вы знаете, что именно угрожает евреям и что говорят об этом. Я же не могу себе приказать писать на заданную тему, а побуждения — нет.
Помогай вам бог в добром деле.
Любящий вас Л. Толстой.
Печатается по копии рукой И. И. Горбунова-Посадова. Полностью опубликовано в «Литературном наследстве», 37—38, М. 1939, стр. 270. Дата копии, поставленная В. Г. Чертковым, подтверждается записью в Дневнике Толстого того же числа (см. т. 51, стр. 27).
Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — философ-идеалист, поэт и публицист.
Эмилий Михайлович Диллон (E. J. Dillon, 1854—1933) — англичанин, доктор восточных языков и литературы. В 1884 г. был профессором сравнительного языкознания в Харькове. Переводчик Толстого и автор ряда статей о нем. С Толстым лично познакомился в 1890 г., посетив Ясную Поляну 13—15 декабря.
Ответ на письмо без даты, которое было написано В. С. Соловьевым и подписано им и Диллоном, опубликован в «Литературном наследстве», № 37—38, стр. 269—270. Авторы письма просили Толстого написать протест или подписать коллективный протест против готовящихся новых правил для евреев, живущих в России. Протест был составлен В. С. Соловьевым (см. письмо № 86). Толстой подписал этот протест первым. Опубликование текста протеста было запрещено.
35. С. Л. Толстому.
1890 г. Марта 15. Я. П.
Открываю твое письмо со страхом, но в середине чтения его стал плакать от самого радостного чувства, и теперь пишу и плачу. Помогай тебе бог.
Л. Т.
На конверте: Петербург, Сергею Львовичу Толстому.
Впервые опубликовано в книге: С. Л. Толстой, «Очерки былого», 1949, стр. 187. Дата определяется почтовым штемпелем и записью в Дневнике Толстого 15 марта (см. т. 51, стр. 27).
Ответ на письмо C. Л. Толстого из Петербурга, без даты, напечатанное в «Очерках былого», стр. 186—187.
* 36. Д. А. Хилкову.
1890 г. Марта 15. Я. П.
Спасибо, что написали именно о всем том, что мне хотелось знать. Собирался написать вам длинное письмо, но заболел и накопилось столько дел, что не успею теперь. Ге проехал и не мог заехать. Картина его прекрасна.1 Маленькую статейку Балу посылаю.2 Пожалуйста приезжайте в мае.3 Если мне нельзя будет быть дома, я напишу. Какие именно книги желательно послать Л[юбичу].
Л. Т.
На обратной стороне открытки: Курско-Киевской железн. дороги. Новоселки. Дмитрию Александровичу Хилкову.
Дата определяется почтовым штемпелем и записью в Дневнике Толстого 15 марта (см. т. 51, стр. 27).
Письмо Хилкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Картина H. Н. Ге «Что есть истина?».
2 Статья эта, по-видимому, не была послана. См. письмо № 54.
3 Хилков был у Толстого с 11 по 13 мая.
38. A. C. Суворину.
1890 г. Марта 18. Я. П.
Милостивый Государь,
Очень меня обяжете, если напечатаете в вашей газете прилагаемую заметку.
Получая много писем, заключающих ответы на будто бы предложенные мною 36 вопросов, во избежание недоразумений считаю нужным заявить, что приписываемые мне эти вопросы составлены не мною.
Лев Толстой.
18-го марта 1890 г.
Тула. Ясная Поляна.
Отрывок (второй абзац) впервые опубликован в газете «Новое время» 1890, № 5050 от 21 марта, стр. 2; полностью напечатано в книге «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л. 1927, стр. 181.
Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — публицист, писатель и редактор-издатель реакционной петербургской газеты «Новое время»; владелец книжных магазинов и издательской фирмы. См. о нем т. 61.
Непосредственным поводом к написанию настоящего письма послужило письмо В. М. Грибовского (о нем см. прим. к письму № 176) по поводу распространявшихся в Петербурге «Вопросов к русским девушкам», приписываемых Толстому. На четвертой, чистой, странице письма Грибовского от 11 марта 1890 г. набросан рукой Т. Л. Толстой, под диктовку и с исправлениями Толстого, черновик письма, почти полностью совпадающий с окончательным текстом.
Такого же содержания письмо Толстого было послано В. М. Соболевскому в газету «Русские ведомости», но напечатано оно в этой газете не было.
Вопросы, упоминаемые в письме Толстого, входили в анкету, составленную Т. А. Кузминской (см. прим. к письму № 209). Передаваемая сначала кругу знакомых семьи Кузминских, анкета эта вскоре широко распространилась среди лиц вовсе незнакомых и разрослась с 36 вопросов до 49 и более.
* 39. В. Н. Возницыной.
1890 г. Марта 20? Я. П.
Очень желал бы суметь высказать то, что вы предлагаете мне, и занят этим последнее время.1 Ваше письмо подтвердило мне потребность этого.
Лев Толстой.
На конверте: Поварская, Борисоглебский пер., д. Ильинского, Варваре Николаевне Возницыной.
Дата определяется почтовым штемпелем на конверте: «Тула 22 марта 1890», сопоставленным с записью в Дневнике Толстого 20 марта: «Вечером писал письма.... все ответил» (см. т. 51, стр. 30).
Варвара Николаевна Возницына — в 1890 г. надзирательница Первой московской женской гимназии; обратилась к Толстому с письмом (из Москвы) от 12 марта 1890 г., в котором писала о своем впечатлении от чтения «Крейцеровой сонаты». «Написав для нас этот рассказ, — говорила она, — укажите нам ответ в конце его».
1 Толстой писал «Послесловие» к «Крейцеровой сонате».
* 40. H. Н. Ге (сыну).
1890 г. Марта 20. Я. П.
Нет, милый друг Колечка, вы не правы: не в том, что вы говорите, а в том, как вы говорите.
Что хотите, как хотите, а одно только нужно богу, одно нужно людям и мне самому — это то, чтобы во мне было сердце чистое от осуждения, презрения, раздражения, насмешки, вражды к людям. И чорт ее побери всю работу, если она отдалит меня от людей сердцем, а не приблизит к ним, лучше, как буддист, пойти побираться с кубышкой. Но мне не пишется это вам, потому что, как вы мне говорите, так я говорю вам, — вы всё это лучше меня знаете. И знаете, что у вас недоброе чувство к Черткову, а это нехорошо, и вам больно. Да, надо, чтобы была правда. Это важнее всего. И бог это знает и поставил нас в такие условия, что от правды не уйдешь: не уйдешь от физических и еще меньше от нравственных страданий, не уйдешь от смерти. И все мы в этой правде, и Чертков в ней, и нельзя ни про кого сказать: он во лжи. А сказать, что во лжи он, так это всё равно, что сказать, что человек в дерме, и потому отбросить его. В дерме он, так тем больше надо жалеть и очистить его; любить он этого не может, так, как и все мы. Вы пишете: где двое и трое во имя мое, там жизнь только. Жизнь и у того, кто 25 лет сидит в крепости или стоит на столбу один.
Но это всё ни то, ни сё, а хочу я сказать вам главное вот что: живой человек тот, который идет вперед, туда, где освещено48 49 его впереди его двигающимся фонарем, и который никогда не доходит до конца освещенного места, а освещенное место идет впереди его. И это жизнь. И другой нет; и только при такой жизни нет смерти, потому что фонарь освещает туда, и туда и уходить за ним так же спокойно, как и во всё продолжение жизни. Если же человек заслонит фонарь или станет им освещать вокруг себя или назади, а не впереди и перестанет итти, то будет остановка жизни.
Ну вот, простите, друг, примите с той любовью, с какой я пишу. Я боюсь, что, достигнув того, что вам так долго показывал фонарь, вы перестали его нести перед собой. Помилуй бог. Ведь это вечный обман: нам всё хочется, так же, как хочется сделать что-то внешнее, дело совершить, также хочется найти наилучшее положение и стать в него; а также, как совершить нельзя, да и не нужно никакого дела, а нужно только свои силы прилагать наилучшим образом к вечному божьему делу, также и положения ни лучшего, ни худшего никакого не может быть, а всякое положение есть только известное в известное время последствие моего отношения к божьему делу, и положения нет и не может быть одного постоянного, а оно текучее, и ваше положение теперешнее есть один момент ни более ни менее законный, чем тот, когда вы жили в Твери, и непременно сменится другим положением. Смотрите, голубчик, не сердитесь и не выпалите в меня, как в Черткова, а напротив, с Ч[ертковым] поладьте. А то больно. Целую вас.
Л. Т.
Слышал, что «Что есть истина» сняли с выставки. Правда ли? Я порадовался. Признак значения. А мира не может быть между Христом и миром. Целуйте отца, мать,1 жену, детей. Ha-днях был Файнерман из общины Алехина.2 Все очень хорошо живут.
Печатается по копии рукой М. Л. Толстой. Дата, взятая с находящегося в АЧ копировального листа, подтверждается упоминанием письма под той же датой в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на несохранившееся письмо Н. Н. Ге (сына).
1 Анна Петровна Ге, рожд. Забелло (1832—1891).
2 Община Шевелево в Дорогобужском уезде Смоленской губ., основанная Аркадием Васильевичем Алехиным в 1889 г.
41. А. В. Дольнеру.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Ведь дело в том, что выгодно ли, невыгодно для внешнего успеха дела любовное (ненасильственное) обращение с учениками, вы не можете обращаться иначе. Одно, что можно сказать наверное, это то, что добро будит добро в сердцах людей и наверное производит это действие, хотя оно и не видно.
Одна такая драма, что вы уйдете от учеников, заплачете (если они узнают), одна такая драма (драмы такие бывали и со мной,1 и с Ф[айнерманом], когда он учил в Ясн[ой] Пол[яне],2 и на днях была с дочерью Т[аней], которая учит) — одна такая драма оставит в сердцах учеников большие, более важные следы, чем сотни уроков.
Если же вы спросите меня: практически возможно ли вести дело так, как вы повели, то скажу, что думаю — да, возможно.
Помогай вам бог.
Печатается по неполной рукописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 37. Дата копии.
Анатолий Владиславович Дольнер (1867—1896) — художник. См. т. 64, стр. 256 и т. 66.
Ответ на недатированное письмо Дольнера из Воронежской губ., в котором Дольнер писал о своих занятиях в школе и затруднениях, которые он встречал как учитель, не прибегая к методу «дисциплинарного насилия».
1 Толстой занимался школьным делом в Ясной Поляне в 1849 г., в 1859—1862 и в 1871—1872 гг.
2 И. Б. Файнерман преподавал в земской школе в Ясной Поляне в 1885—1887 гг.
42. Неизвестному.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Жизнь ваша, судя по вашему письму и по тому, как я помню вас, очень хорошая. Не тяготитесь ею, а благодарите за нее бога. Можно сомневаться о том, полезно или нет чтение рабочему народу, но когда приходят просить почитать и вы даете Достоевского вместо Гуака,1 которого бы они читали, нет50 51 места сомнению. То-то и хорошо в вашей жизни. Помогай вам бог.
Книг не знаю, каких вам нужно. Напишите список того, что бы желали иметь, и, может быть, я найду или достану.
Печатается по рукописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 38. Дата копии.
Письмо и адресат, вызвавшие ответ Толстого, неизвестны.
1 Лубочная повесть «Гуак, или непреоборимая верность». Многократно издавалась книгопродавцами Т. А. Губановым, Е. И. Коноваловой и К0, А. Д. Сазоновым, И. Д. Сытиным и др.
43. Неизвестному.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Ответы на занимающие вас вопросы я ответил сам себе и изложил, как умел, в книге: «В чем моя вера?» и «Исследование Евангелия». Книги эти запрещены, но полагаю, что их не трудно достать в Петербурге. Боюсь, что книги эти скандализируют вас, но что же делать. Я ничего иного не могу думать, следовательно и говорить.
Печатается по рукописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 40. Дата копии.
Письмо и адресат, вызвавшие ответ Толстого, неизвестны.
44. Неизвестному.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Получил оба ваши письма и должен огорчить вас тем, что ничего не могу сделать для вас. Пожалуйста, не сердитесь на меня за это и постарайтесь устроить свою судьбу без внешней помощи. Не рассчитывайте на нее. Она всегда не нужна и полезна бывает только на короткое время. Пожалуйста, не сердитесь на меня, я не могу.
Печатается по рукописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 39. Дата копии.
На какие письма отвечает Толстой, неизвестно.
45. М. А. Новоселову и В. В. Рахманову.
1890 г. Марта 20? Я. П.
Ha-днях б[ыл] Файнерман и рассказывал мне про Алехинских и про вас, милые друзья Мих[аил] Ал[ександрович] и Влад[имир] Вас[ильевич]. Пишу же главное и обращаюсь к Новоселову.
Он рассказывал мне, что вам тяжело стало ваше положение в общине, в особенности п[отому], ч[то] вы воображаемый хозяин,1 и к вам, как к таковому, обращаются. Я подумал поэтому следующее: Отказаться от собственности и от того, что она дает, удобства, прихоти и обеспечение жизни, это один шаг, по странному заблуждению кажущийся ужасно трудным людям мирским, но в сущности — шаг этот не очень труден бывает, п[отому] ч[то], когда поднимаешь эту тяжесть, на другую сторону весов кладется незаметно тяжелая гиря тщеславия, славы перед людьми. «Вот посмотрите, я что говорю, то и делаю». Но за этим шагом идет следующий, предстоит поднять следующую тяжесть — отречение от славы людской. Тут уж мирского нечего положить на другую сторону коромысла, и потому является то, что то, что мирскими людьми считается далеко не столь трудным, как первое, оказывается гораздо труднее. Ну, вы хозяин земли, вы перед людьми землевладелец, вы отстаиваете свои интересы; ну и пускай. Если у вас есть то, что надо положить тут на весы (а у вас оно есть), именно любовь к богу, к добру, желание служить ему, то и кладите на весы и смотрите, что перевесит. Вы ведь знаете и бог знает, зачем вы покупали землю и жили, как живете, и если это делано для служения богу, то уж никак то, что будут думать и говорить про вас, не может это расстроить.
Хорошо сказано: и блаженны вы, когда поносят вас. Да, только тогда вы найдете в своей душе, а не найдете, то выработаете, ту силу, для к[оторой] не нужно ни личных радостей, ни славы людской.
Помогай вам бог. Пишите.
Л. Толстой.
Впервые опубликовано с неверной датой «1899» в журнале «Новый путь» 1903, 2, стр. 153—154. Дата определяется следующими данными. Письмо написано вскоре после посещения Ясной Поляны Файнерманом 14 марта 1890 г., но не ранее 17 марта, так как в этот день Толстой отмечает в Дневнике52 53 о своем намерении написать настоящее письмо. Возможно, что оно написано 20 марта, когда Толстой сделал запись об ответе в этот день на все письма (см. т. 51, стр. 30).
Михаил Александрович Новоселов (р. 1864). См. о нем в т. 63, стр. 391.
1 М. А. Новоселов купил землю для общины на свои деньги и был официальным собственником ее, так как община формально не была утверждена.
46. А. Д. Погодину.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Александр Дмитриевич!
Я долго не отвечал на ваше письмо, п[отому] ч[то] был болен. — Вы рассказываете мне свою жизнь и спрашиваете совета; я буду говорить, что думаю, вы не обижайтесь. Вы страдаете знакомым мне очень и тяжелым недугом — нелюбовью, холодностью, враждебностью к людям, и к самым близким — к тем именно, с которыми у вас самые частые сношения.
— «Я со всеми могу ужиться, только не с своим отцом, матерью, женою, братом, сыном... Бывают люди дурные, с пороками, самоуверенные, лживые, бессовестные, жестокие, непонимающие; но такого или такой, как мой отец, мать, жена и пр., нет другого на свете...»
Это самое обычное суждение людей, страдающих холодностью к людям. Трение, неизбежное с одним человеком, вызывает вместо холодности — ненависть; и ненависть, вражда к одному человеку, заражает всю душу так, что Калигула, желавший срубить голову всему человечеству,1 не злее и потому не более страдает, как и тот человек, который ненавидит только одного человека.
Холодность же к людям, на которой вырастает ненависть, происходит от ложного взгляда на жизнь, на свое значение в ней: Если смотреть так, что жизнь дана мне для удовольствия, то люди будут мешать мне, и я буду ненавидеть их; если же смотреть на жизнь так, что она дана мне за тем, чтобы исполнить волю Того, кто дал мне эту жизнь (воля же его в том, чтобы жить не для своего удовольствия, а для блага других), то будет совсем другое отношение к людям.
Если усвоить себе этот взгляд, то скоро увидишь, что главное препятствие исполнения воли Отца и служения людям —53 54 во враждебности, и начнешь подавлять в себе эту враждебность во всех ее проявлениях: в осуждении, в насмешке, в требовательности; и в особенности станешь подавлять ее по отношению самых близких людей, — тех, с которыми в более частых сношениях. Сначала будешь подавлять внешним образом, но потом станешь подавлять внутренно: не только не будешь делать упреков, не только заглаза не будешь осуждать, но в душе сам с собой сначала не будешь позволять себе думать дурно, а потом выучишься видеть хорошее (во всех оно есть), и сейчас же почувствуешь награду не в одних отношениях с этим лицом, а просто почувствуешь во всем удесятеренную радость жизни.
Я прочел и обдумал ваше письмо очень внимательно, сделайте то же и с моим. Я пишу то, к чему пришел после внимательного обсуждения.
Печатается по рукописной копии. На копии надпись В. Г. Черткова: «Проверено по оригиналу. В. Ч.». Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 41—42. Дата копии.
Ответ на несохранившееся письмо Александра Дмитриевича Погодина из Петербурга.
1 По преданию, римский император Калигула (Гай-Цезарь Германик, 12—41) выразил сожаление, что римский народ не обладает одной головой, которую можно бы было отрубить сразу.
* 47. С. Т. Семенову.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Хорошее письмо ваше получил, дорогой Сергей Терентьич.
Всегда с радостью получаю известия о вас. Помогай вам бог продолжать с женою те же отношения. Страшная сила — любовь, только часто бывает, что мы не видим силы ее действия. От этого мы и редко пользуемся этим орудием, а употребляем обратное ей, последствия кот[орого] всегда сейчас видны. Любовью нельзя заставить человека сейчас, завтра, через месяц, через год даже, заставить человека делать то, что я хочу, но можно, и наверное, изменить всего человека так, что он будет делать лучше, чем то, чего я хочу, он будет делать то, чего бог хочет. —
Другое важное дело в вашем письме, это ваше желание и надежда прожить без прибавочных средств через писанье. Держитесь этого и ничего не загадывайте. Придет нужда, суму54 55 наденете, или же прежде попросите ради Христа у того, у кого есть. — Совершенно ложное мнение: дай бог подать, не дай бог взять. Одно не лучше и не хуже другого. — Если же сравнивать, что лучше: просить у людей и докучать им, когда истинная нужда, или ни у кого не просить, никому не докучать и еще подавать другим, обеспечив свое состояние нехристианским путем: службой, кабаком, ростовщичеством и вообще делом, к[оторое] сам считаешь не добрым.
На Черткова не пеняйте. Он наверное любит вас.1
Ну прощайте, помогай вам бог. Пишите.
Л. Толстой.
Дата машинописной копии.
Сергей Терентьевич Семенов (1868—1922) — писатель из крестьян. См. т. 64, стр. 67.
Ответ на письмо Семенова от 3 марта 1890 г. (из деревни Андреевской, Волоколамского уезда).
1 Семенов писал о своих недоразумениях с В. Г. Чертковым по вопросам литературного гонорара.
* 48. И. И. Горбунову-Посадову.
1890 г. Марта 20. Я. П.
Ну, милый друг Иван Иван[ович], если письмо будет коротко и нескладно, не взыщите. Запустил от болезни переписку и нынче ответил кучу писем и все раньше вашего полученные, так что ваше последнее. Соловьеву я писал. Вы пишете так хорошо и верно, что только списать бы из вашего письма и было бы то, чего они желают. Тоже и послесловие [к] Кр[ейцеровой] С[онате]. Моя работа не подвигается, хотя отложил все другие. Во 1) нездоров всё, а 2) нельзя об этом говорить кое-как. Тут невольно возник[ло] для меня важное и новое соображение, а именно о том, что христианское учение не определяет форм жизни, а только во всех отношениях человека указывает идеал, направление; то же и в половом вопросе. — Люди же не христианского духа хотят определений форм. Для них выдумали церковный брак, не имеющий в себе ничего христианского. А в половых сношениях, как и в других: насилия, гнева, нельзя и не должно спускать идеала, кривить его. А это сделали церковники по отношению к браку. — Другое соображение то, что вследствие этого непонимания духа христианства55 56 обыкновенно делят людей на христиан и не христиан. Самое грубое деление состоит в том, чтобы крещеного только считать христианином, но деление, хотя и менее грубое — человека, на основании учения Хр[иста] живущего чистой семейной жизнью, не убийцу и т. п., называть христианином, в противуположность живущих иначе, также не верно. В христианстве нет черты, отделяющей христ[ианина] от нехристианина; есть свет, идеал — Христос, и есть мрак, животное1 и движение во имя Хр[иста], к Христу на этом пути. И все мы где-нибудь идем на этом пути. Так вот по отношению полов идеал целомудрие, полное, совершенн[ое]. Человек, служащий богу, так же мало может желать напиться, как и жениться, но на пути к целомудрию есть разные стадии. И одно можно сказать для тех, к[оторые] хотят ответа: что ж, жениться или нет? это то, что если вы не видите идеала целомудрия, не чувствуете потребность отдаться ему, то идите к целомудрию, сами не зная того, нецеломудренным путем брака. Как не могу я, будучи высок ростом и видя перед собой колокольню, указать ее идущему подле меня невысокому человеку, не видящему ее, как направление пути, а я должен указать ему какую-либо другую веху на том же пути. Такая веха есть брак честный, для тех, к[оторые] не видят идеала целомудрия. Но это могу указывать я, вы, но Хр[истос] ничего иного не указывал и не мог указывать, как целомудрие.
Целую вас, Чертковых. Здоровье мое получше. —
Л. Толстой.
На конверте: Петербург. Лиговка, 31. Ивану Ивановичу Горбунову.
Отрывки под заглавием «Деление» и «Жениться или нет» напечатаны с большими искажениями в «Спелых колосьях», 2 и 3, стр. 69 и 165—166. Дата установлена сопоставлением почтового штемпеля отправления: «Тула. 22 марта 1890» и второй фразы письма — со словами в Дневнике Толстого 20 марта: «Вечером писал письма, написал их 9 — все ответил» (см. т. 51, стр. 30).
Иван Иванович Горбунов-Посадов (1864—1940). См. т. 64, стр. 188.
В письме от 13 марта из Петербурга Горбунов горячо поддерживал просьбу В. С. Соловьева и Э. Диллона о том, чтобы Толстой написал о еврейском вопросе. См. письмо № 34. Горбунов писал также, что «ждет «Послесловия» к «Крейцеровой сонате».
1 Далее зачеркнуто: дьявол
49. C. A. Толстой от 20 марта 1890 г.
* 50. H. Н. Ге (сыну).
1890 г. Марта 22. Я. П.
Я писал вам в дурном, слабом состоянии духа и потому и что написал, то неясно, и не досказал главного, к чему вел. Вел я к тому, что для того, чтобы жить, надо непременно итти вперед в таком деле, которому нет конца и в совершении которого нет помехи. И такое дело есть только одно: совершенство в любви. Работа же, известное положение, есть только в известном случае последствие любви. Работа и известное низкое экономическое положение есть последствие и потому проверка истинной любви. Отсутствие работы и высокое обеспеченное экономическое положение обличают неискренность, и неправдивость, и слабость человека и потому имеют значение отрицательное; но положительного не имеют никакого значения, λᾶτρεία1 (латрея) — идолопоклонство, ἐργολατρεία будет идолопоклонство работы. Опасное дело и самое обычное. Молитва, следствие стремления обращения к богу, самое законное действие, ставится целью, и является богослужение, убивающее нравственную жизнь; милосердие, помощь ближнему, как следствие любви к богу — самое законное действие, становится целью, и является филантропизм. Бедность, нищета, отсутствие собственности, как последствие непротивления насилием и отречения от обеспечения, — самое законное состояние, ставится условием, целью, и является формальная бедность буддистов, монахов. То же и с работой. Если она, последствие отречения от обеспеченности и желания служить другим, ставится целью, — она непременно приведет к заблуждению.
Главное же, главное, душа в душу говорю вам, милый друг: единственная цель бесконечная, радостная, всегда достижимая и достойная сил, данных нам, это увеличение любви. Увеличение же любви достигается одним определенным усилием: очищением своей души от всего личного, похотливого, враждебного. «Душа человека христианка»,2 т. е. ей не только свойственно, но сущность ее есть любовь, и потому, чтобы усилить,57 58 увеличить любовь, надо только очищать, шлифовать ее, как стекло, собирающее лучи. Насколько будет шлифованнее и чище, настолько будет сильнее пропускать и изливать свет и тепло любви. И этому делу нет конца, нет препятствий, нет пределов радости и нет ничего доброго, того, что должен человек сделать, что бы не входило частью в это дело, т. е. в дело очищения души, и, вследствие того, увеличения любви. Вы это знаете, милый друг, знаете эту радость, потому что шли по этому пути и теперь, вероятно, идете в глубине своего сознания. Я же, чем ближе подхожу к плотской смерти, тем яснее это вижу и познаю не одним созерцательным, но и действительным опытным путем: учусь не только к присутствующим, живым людям, но и к отсутствующим, к животным, к умершим подавлять в себе всякий оттенок презрения, насмешки, раздражительности, не только враждебности; и удивительно: по мере достижения получаешь и награду в ясности мысли, жизнерадостности, плодотворности и скорости работы. В этом деле, вы, верно, знаете это, нелюбовь к одному человеку парализует силы жизни, точно так же, как нелюбовь, ненависть ко всему роду человеческому. Стекло замутнится и не пропускает света от одной капли грязи, так же, как и от бочки. Пишите, пожалуйста.
Л. Т.
Печатается по копии рукой М. Л. Толстой. Впервые опубликовано с небольшими пропусками и искажениями в ПТСО, стр. 82—83. Дата копии.
1 [служба, служение]
2 Слова эти принадлежат карфагенскому богослову Тертуллиану.
51. Н. П. Вагнеру.
1890 г. Марта 25. Я. П.
Истинно уважаемый и любимый Николай Петрович. * Письмо ваше вызвало те самые чувства, к[оторые] вы им, вероятно, и хотели вызвать, чувства сожаления, раскаяния почти, грусти в том, что я огорчил, хотя и нечаянно, человека, к[оторого] люблю и уважаю, и главное, любви и благодарности58 59 к вам за ваше любовное отношение к человеку, сделавшему вам больно. Пожалуйста, прежде всего простите меня, а потом уже выслушайте. В мое оправданье скажу следующее: 1) что эта комедия давно была мною написана начерно и заброшена; явилась же она на свет божий нечаянно: дочери попросили ее играть, я стал поправлять, никак не думая, что она пойдет дальше нашего дома, а кончилось тем, что она распространилась. Это оправдание слабое, но все-таки оправдание: если бы я прямо задумал ее для печати, очень может быть, что я такою не издал ее. 2) О вас и о Бутлерове1 я никогда не думал, пиша комедию. Про Бутлерова всё, что я знал, внушало мне уважение к нему, к вам, я уже говорил вам, какие я имею чувства. Профессор же является как олицетворение того беспрестанно встречающегося и комического противоречия: исповедание строгих научных приемов и самых фантастических построений и утверждений. 3) И главное мое с годами всё усиливающееся отвращение, от которого я не отрекаюсь, ко всяким суевериям, к к[оторым] я причисляю спиритизм. Чем больше я вглядываюсь в жизнь людей, тем больше я убеждаюсь, что главное препятствие для осуществления, или, скорее, задержка — в суевериях различных, прирастающих с разных сторон к истинному учению и мешающие ему проникать в души людей. Суеверия это те ложки дегтю, губящие бочки меду, и их нельзя не ненавидеть или, по крайней мере, не смеяться над ними. Недавно я был в Оптиной пустыни и видел там людей, горящих искренней любовью к богу и людям и, рядом с этим, считающих необходимым по нескольку часов каждый день стоять в церкви, причащаться, благословлять и благословляться и потому парализующих в себе деятельную силу любви. Не могу я не ненавидеть этих суеверий. Я вижу, как эти суеверия для одних подменяют сущность формой, для других служат орудием разъединения, третьих отталкивают от учения истины. То же со всяким суеверием, со всякой ложкой дегтю. — И это потому, что истина обща, всемирна, всечеловечна, суеверия же эгоистичны. Суеверия — это известные формы, приятные, удобные для известных лиц в известном положении. Как только человек в ином положении, суеверия других его отталкивают, а его суеверия их отталкивают. Таковы, по моему мнению, суеверия всех церквей и таковы же — спиритизма. Мне кажется, что людям, преданным известного рода частным учениям, надо бы выучиться59 60 отделять общую всем истину от того, что они только, известные люди, считают за истину. Если бы это было так, если бы они не считали того, что причащение, или происхождение св. духа, или существование духов суть такие же несомненные истины, как и закон смирения, нестяжания, чистоты любви, если бы они свою ложку дегтю разводили бы в особенной посудинке, не заражая всю бочку, то можно было бы не ненавидеть этих частных учений. Тогда бы можно было сходиться теми огромными сторонами, кот[орые] общи у всех людей, и не прикасаться теми сторонами, к[оторые] так разнообразно прихотливо изогнуты у стольких различных исповеданий. — Думал же я это особенно живо, когда читал или слышал про вашу глубоко сочувственную мне деятельность во имя того принципа человечности, о кот[ором] вы упоминаете в вашем письме. Эти же чувства испытываю я беспрестанно, получая в последнее время из Америки очень много спиритических изданий и журналов, из кот[орых] многие, напр. Wo[r]ld’s advance Thought, самого высокого христианского настроения.
Вот вам моя исповедь; пожалуйста, еще раз простите меня, если я, излагая ее, где-нибудь слишком резко выразился. Я скажу, как дети: простите, это в первый и последний раз, последний раз п[отому], ч[то], раз высказавшись, я уже не буду никогда впредь говорить с вами о спиритизме, а если вы не лишите меня своей дружбы и общения, буду общаться с вами теми сторонами, к[оторые] у нас согласны. — Мне кажется, что это можно, и надеюсь, что то обстоятельство, кот[орое] вызвало эту переписку, будет не орудием разъединения, а, напротив, сближения между нами. —
Уважающий и любящий вас
Л. Толстой.
* Если я неверно ставлю отчество, то простите. В городе бы я узнал, а в деревне негде.
На конверте: Петербург. Университет. Профессору Николаю Петровичу Вагнеру.
Впервые с цензурными пропусками опубликовано в «Известиях Общества Толстовского музея» 1911, № 2, стр. 2—4. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 25 марта (см. т. 51, стр. 31).60
61 Николай Петрович Вагнер (1829—1907) — профессор зоологии Петербургского университета, с 1898г. член Академии наук, писатель-беллетрист, печатавшийся под псевдонимом «Кот-Мурлыка», сторонник спиритизма.
О нем подробнее см. в т. 61.
Ответ на письмо Вагнера от 13 марта 1890 г. из Петербурга, написанное после прослушания им комедии Толстого «Плоды просвещения» в заседании Русского литературного общества. Вагнер упрекал Толстого в том, что Толстой, осмеивая спиритизм, «глумился» и над ним, Вагнером, и его «покойным другом» А. М. Бутлеровым; говорил, что Толстой в этом произведении унизил себя до «пасквиля на профессоров и ученых».
1 Александр Михайлович Бутлеров (1828—1886), великий русский химик, академик, профессор Петербургского университета, в общих философских вопросах — идеалист и сторонник спиритизма.
2 Толстой пробыл в Оптиной пустыне 27 и 28 февраля 1890 г. См. записи в его Дневнике за эти дни (т. 51, стр. 23—24).
3 Слова: частным учениям написаны вместо зачеркнутого: суевериям.
52. С. А. Толстой от 27 марта 1890 г.
53. Л. Е. Оболенскому.
1890 г. Марта 29 — 31? Я. П.
Я получил ваше письмо, Леонид Егорович, и меня очень огорчило то раздражение против моего рассказа, кот[орое] я нашел в нем. Мне кажется, что причина этого та, что там сказано, что неправильность и потому бедственность половых отношений происходит от того взгляда, общего людям нашего мира, что половые отношения есть предмет наслаждения, удовольствия, и что потому для мущины женщина, и, надо бы прибавить, для женщины мущина, есть орудие наслаждения, и что освобождение от неправильности и бедственности половых сношений будет тогда, когда люди перестанут так смотреть на это. Так думает П[озднышев], пострадав от этого разделяемого им со1 всеми взгляда. При этом прибавлено, что внешнее умственное образование женщин, получаемое на курсах, не может достигнуть этой цели, как многие склонны думать, п[отому] ч[то] никакое самое высокое научное образование не может изменить взгляда на этот предмет, так как и не задается этой целью. Мне кажется, что я не ошибаюсь в этом.
И потому мне кажется, что вы неправы в этом, неправы61 62 и в тех раздражительных нападках на рассказчика, преувеличивая его недостатки, тогда как по самому замыслу рассказа Позднышев выдает себя головой, не только тем, что он бранит сам себя (бранить себя легко), но тем, что он умышленно скрывает все добрые черты, кот[орые], как в каждом человеке, должны были быть в нем, и в азарте самоосуждения, разоблачая все обычные самообманы, видит в себе одну только животную мерзость.
Ну вот, что я имею сказать на ваше письмо. Право, это так. И если вы спокойно обсудите, вы с вашим критическим и нравственным чутьем, верно, согласитесь со мной. —
Ведь мне достоинство моих писаний и одобрение их мало интересны. Уж мне скоро помирать, и всё чаще и чаще думаю о жизни в виду смерти. И потому интересно, важно для меня одно, это чтобы не сделать худого своим писанием: не соблазнить, не оскорбить. Этого я боюсь и надеюсь, что не сделал. — Ну, до свидания.
Любящий вас Л. Толстой.
* Черновое.
1890 г. Марта 28? Я. П.
Получил ваше письмо, Леонид Егорович, и решительно не понимаю, почему вам кажется, что несчастный герой рассказа не имеет право говорить о том, что он испытал. Рассуждение его самое простое и ясное:2 он смотрел на половую похоть так же, как все смотрят на нее в нашем мире, как на предмет наслаждения, на удовольствие, и, пострадав от этого, сделал заключение, что смотреть так не хорошо и не надобно. То же, что, как кажется, вам очень не нравится, что он между прочим говорит, что курсы, как ему кажется, не изменяют взгляда,3 то об этом, я думаю, никто спорить не станет. Шекерство,4 монашество, черничество5 в деревнях изменяет этот взгляд и так и исповедуется. Курсистки же, сколько я знаю, в этом отношении нисколько не отличаются от всех других женщин, и если согласиться, что курсистки, прослушав курсы Герье,6 Бест[ужевские]7 или акушерств[а] и прожив 2 года в них [?], от этого стали выше всяких других женщ[ин] по своим умственн[ым] и нравственным достоинств[ам], то все-таки, сколько мне62 63 известно, в их взгляд[ах] на брак они ничем иным не отличаются от других женщин, как только большею в этом отношении свободой.
Беловой текст впервые опубликован в газете «Биржевые ведомости», утренний выпуск, 1908, № 10675 от 27 августа. Дата черновика определяется записью в Дневнике Толстого 28 марта (см. т. 51, стр. 32). Беловой текст, повидимому, написан во время перерыва в записях Дневника,
29—31 марта.
Леонид Егорович Оболенский (1845—1906) — либеральный публицист, критик и беллетрист; издатель либерально-народнического журнала в Петербурге «Русское богатство» в 1883—1891 гг. О нем см. т. 63, стр. 233—234.
В письме от 25 марта 1890 г. Оболенский писал Толстому, что «Крейцерова соната» вызывает у молодежи, «особенно женской и чистой», «негодование», и объяснял это прежде всего тем, что мысли автора высказаны от лица «такого негодяя и изверга, как Позднышев». По мнению Оболенского, проповедь безбрачия вызвана у Позднышева только страхом измены со стороны жены. Это письмо Оболенского, с несколько видоизмененным началом и концом, опубликовано под заглавием «Открытое письмо Л. Н. Толстому (По поводу «Крейцеровой сонаты»)» в газете «Новости и Биржевая газета» 1890, № 85 от 27 марта, стр. 2.
1 Можно прочесть: и
2 Переделано из: несомненное
3 Далее зачеркнуто: может быть ошибочно, но ни[к]то об этом
4 Шекеры — сектанты; были сторонниками безбрачия.
5 Черничками назывались в крестьянской среде девушки, отказавшиеся от брака и стремившиеся вести образ жизни монахинь.
6 Московские высшие женские курсы, учрежденные в 1872 г. профессором истории Владимиром Ивановичем Герье (1837—1919).
7 Петербургские высшие женские курсы, названные Бестужевскими по имени первого заведующего курсами — профессора истории Константина Николаевича Бестужева-Рюмина (1829—1897).
* 54. Д. А. Хилкову.
1890 г. Апреля 6. Я. П.
Спасибо за письмо, Дмитрий Александрович.
Всё это было очень хорошо, и мне очень радостно было читать это.
Совершенно справедливо, что готовиться к тому, что скажешь, не надо и нельзя. Сказать не то, что сейчас чувствуешь, а что приготовил, есть ложь. — Любичу я кое-что послал, или,63 64 скорее, распорядился послать, именно: В чем м[оя] вера, Крейцер[ову] Сона[ту] и Краткое Еванг[елие], — большого1 нет. —
Меня очень порадовало то, что Крейц[ерову] Сон[ату] вы одобрили, т. е. так же думаете. Мысли, выраженные там, для меня самого были очень странны и неожиданны, когда они ясно пришли мне. И иногда я думал, что не оттого ли я так смотрю, что я стар. И потому мне важно суждения людей, как вы. Теперь я написал к этому послесловие — его от меня требовали многие — Чертков в том числе — т. е. ясно и определенно выразить, как я смотрю на брак. И нынче я кончил и с бывшим у меня датчанином переводчиком отослал это послесловие в Пет[ер]б[ур]г.2 Я его пришлю вам, и мне опять интересно ваше мнение. Балу я роздал и вам не мог послать.3
Мне так о многом хочется говорить с вами, что не знаю, с чего начать. Пишите мне, когда свободно, я буду отвечать. — Где была ваша мать4 во время того, как вас допрашивали?5 —
Пока прощайте, не пишется, а хочется отозваться.
Л. Толстой.
Отрывок впервые напечатан в Б, III, стр. 156. Дата определяется сопоставлением фразы письма об отсылке «Послесловия к Крейцеровой сонате» с датчанином-переводчиком и записи в Дневнике Толстого 7 апреля: «Вчера 6 апр[еля]. Утром дописывал, поправлял.... послесловие.... Проводил Ганзена» (т. 51, стр. 32). О Ганзене см. в прим. к письму № 68.
1 «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий».
2 Отослав «Послесловие к Крейцеровой сонате» Черткову в Петербург, Толстой остался им не вполне удовлетворенным и продолжал работу над ним до конца апреля. См. т. 27.
3 См. письмо к Д. А. Хилкову № 36.
4 Юлия Петровна Хилкова. О ней см. в т. 66.
5 В письме от 22 марта 1890 г. Хилков сообщал, что 15 марта к нему явился следователь и предъявил обвинение в «отпадении от православия».
* 55. Ф. А. Желтову.
1890 г. Апреля 8. Я. П.
Хорошее письмо ваше получил,1 Ф[едор] Алексеевич].
Помогай вам бог искренно, не заботясь о людях, ни об опасности от них, ни, пуще всего, о похвале от них, итти дальше и дальше по избранному вами узкому пути.64
65 Ваше понимание вопроса о браке согласно с моим. Я последнее время занят был изложением христианского (по моему разумению) отношения к браку и изложил, как умел, это в послесловии к Крейцеровой Сонате, которое постараюсь сообщить вам.
Печатается по неполной машинописной копии. Автограф, по сообщению адресата, сгорел. Дата копии.
Федор Алексеевич Желтов (р. 1859) — сектант-молоканин, крестьянин села Богородское, Нижегородской губ.
1 Письмо от 16 марта 1890 г.
56. А. С. Зонову.
1890 г. Апреля 8. Я. П.
Ответом на ваш первый вопрос: «Как быть, когда, с одной стороны, сознание истины не дает покоя, а с другой — кусок хлеба мешает говорить?» Ответом на это будет вам: «Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой: как же устоит царство его?» (Мф., 12, 24—26).
Тем-то и хорошо, что ученикам Христа нельзя быть немножко его учеником. Надо быть совсем или вовсе не быть его учеником, надо быть готовым на всё, не ожидая награды, не ожидая войти в обетованную землю. Тем-то хорошо, что эта необходимость быть совсем учеником или вовсе не быть, и отсеивает мякину ложных учеников.
Второй ваш вопрос: «Так, стало быть, молчать?» Зачем же молчать? Но только не надо радоваться тому, что бесы повинуются, а искать того, чтобы имена наши были записаны на небесах,1 — не оглядываться назад, а смотреть перед собой на ту борозду, которую ведешь,2 т. е. не надо думать о том, хорошо или дурно живут другие, и как мне их исправить, пока еще есть что исправлять в себе.
А воздействие на людей главное — не словами, а жизнью, т. е. что самое сильное орудие воздействия на людей есть совершенство65 66 своей жизни. Только в той мере, в которой хороша своя жизнь, и действовать можно на других. А хорошая жизнь сама не может укрыться, как город наверху горы. Можно не видать действия, но нельзя сомневаться, что оно есть и будет.
Народ не больше запутан, чем ученые. Меньше. Невежество не в незнании, а в ложном знании. И из народа не меньше относительно приходит людей к истине, чем из так называемых образованных.
Да это и не может быть иначе. Мир может быть так устроен, что богатые едят слаще, спят мягче, чем бедные; но не может мир быть так устроен, чтобы богатый или образованный скорее познал истину жизни, чем бедный.
Хочется сказать, что напротив; но это было бы неверно, шансы равны. «И никто не придет ко мне, если не отец привлечет к себе».3 Почему, когда, как приходит один, а не приходит другой? — это тайна.
Так вот, что умею, отвечаю на ваши вопросы.
Главное же хочется вам сказать, что уныние для христианина есть признание в своем неверии в истину Христову. Для того, кто понял ее и верит в нее, не может быть уныния, потому что не может быть ничего дурного, а всё благо. И если человеку, верующему в Христову истину, представится что-нибудь дурно в мире, то он должен искать не объяснения этого зла, не средства побороть его, а должен искать свою ошибку. Мне представляется, что [если] есть зло на свете, да еще такое, которого нельзя побороть Христовой истиной и любовью, — значит, я чего-то не понимаю; надо пересмотреть свою веру и найти свою ошибку. Евангелие — учение о благе.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Автограф взят у адресата при обыске в 1900 г. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 43—44. Дата копии.
Алексей Сергеевич Зонов (1870—1919) — в то время ученик Московского железнодорожного училища, позднее служащий Управления Московско-Казанской железной дороги; сотрудник «Посредника»; с 1907 г. издатель «Календаря для всех».
Ответ на письмо Зонова от 23 марта 1890 г.
1, 2, 3 Евангельские тексты.
57. А. Д. Погодину.
1890 г. Апреля 8. Я. П.
Я отвечал вам прямо на ваш вопрос, на тот самый, который вы повторяете: возможно ли пробудить давно угасшее (почему давно угасшее?) чувство и способность быть более сердечным, и если возможно, то каким путем?
Одно есть только средство — любить, понимать, что жизнь есть не что иное, как любовь (читали ли вы мою книгу о жизни,1 если не читали, то прочтите), устанавливать любовные отношения со всеми людьми, с которыми приходишь в столкновение, и в особенности — с самыми близкими и с теми, которых считаешь дурными. Учиться любви — учиться тем, чтобы не позволять себе враждебно, недоброжелательно не только поступать или говорить с людьми, но не позволять себе недоброжелательно говорить и думать про отсутствующих, про незнакомых, не позволять себе недоброжелательного отношения, раздражения к животным, напрягать свои силы на отыскивание и держание перед собой добрых сторон людей. Поступать так, как поступаешь, когда любишь; и при этом не ожидать, что в сердце твое сразу придет сознание умиленной радостной любви, которую испытывал в детстве или испытываешь к исключительно приятным тебе людям.
Если не будет огня сразу, довольствуйся теплотой. И знай, что теплота увеличится и огонь разгорится. А то часто, настроив всю жизнь на деятельность эгоистическую, исключающую возможность любви, мы сетуем, что не ощущаем ее. Любовь, главное, может придти только к тому, кто отрекся от себя, как говорит Христос. А то как же придет ко мне любовь к богу и людям, когда я полон любовью к себе? Надо очистить сосуд, чтобы влить в него то, что мы хотим влить. В этом же случае — только нужно очистить; содержание же, вливаемое, наполнит его, потому что вся жизнь есть только любовь.
Печатается по рукописной копии из AЧ. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 42. Дата копии «10 апр. [18]90 г.», означающая почтовый штемпель получения, уточняется на основании упоминания этого письма под датой «8 апреля» в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на письмо Погодина от 24 марта 1890 г.67
68 1 Статья Толстого «О жизни» (1886—1887) была запрещена цензурой и распространялась в рукописном и гектографированном виде. См. т. 26.
58. В. Г. Черткову от 8 апреля 1890 г.
59. П. С. Алексееву.
1890 г. Апреля 9. Я. П.
Извините П. А., что долго не отвечал вам: то был нездоров, а то собралось много дела.
По-настоящему комедия, которая ходит по рукам, не готова к печати и потому и к переводу. Когда она будет печататься (я думаю, в сборнике Юрьева),1 тогда пусть переводят, если думают, что это нужно.
Если будете в Москве или в наших странах, то заезжайте, милости просим; а приезжать из столь далека мне всегда страшно. Да и, право, не стоит.
Я очень порадовался вашей прекрасной статье о пьянстве.2
Не осудите за то, что насчет переводчика так неопределенно отвечаю. Так много таких предложений, так мне безразлично, как переведут и когда, так я раз навсегда решил не заботиться о судьбе написанного, и не интересуюсь ею, что иначе никак не могу ответить.
Печатается по машинописной копии. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 45. Дата копии.
Петр Семенович Алексеев (1849—1913) — врач, автор ряда трудов по акушерству и книги «Первая помощь и уход за больными. Общедоступные сведения», М. 1885. Со второй половины 1880 г. составлял ряд брошюр и книг, посвященных борьбе с алкоголизмом. В 1889—1894 гг. состоял помощником врачебного инспектора в Чите, потом перевелся на ту же должность в Ригу, где и умер. По сведениям, полученным от вдовы П. С. Алексеева, подлинники писем Толстого к нему не сохранились.
Письмо, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Комедия Толстого «Плоды просвещения» была впервые опубликована в книге: «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного», М. 1891. Сборник вышел в ноябре 1890 г.
2 См. прим. 5 к письму № 2. Рукопись книги П. С. Алексеева «О пьянстве», высланная автором из Читы П. И. Бирюкову 4 июня 1889 г. для издания, была Бирюковым прислана Толстому.
* 60. H. H. Ге (сыну).
1890 г. Апреля 9. Я. П.
Колечка, милый друг! Как же это может быть, чтобы я вас не любил. Во-первых, я вас люблю, как не велит любить Христос, — любящих нас и просто приятных нам; а во-вторых, люблю за то, что вы сотрудник, сотоварищ, единомышленник — и за это не хорошо любить; а в-третьих, главное, люблю для бога, для себя.
Чем ближе подхожу к концу1 этой жизни (а я чувствую совсем его близость), тем больше и больше выделяется для меня из всего, что я думал и чувствовал, из всего, что я исповедую, одно не только главное, но единственное, чем только можно жить и чем я живу теперь. Каждый день по многу и по многу раз я молюсь так: Отец мой на небе, свято для меня одно в мире — твое имя (т. е. сущность твоя), сущность же твоя — любовь. Ищу, желаю одного, чтобы пришло, установилось царство твое, царство любви. Какой? — Такой, чтобы, как на небе солнце, звезды, месяц ходят, заходят без столкновения, борьбы, так бы и здесь, в наших человеческих делах, всё бы совершалось с помощью любви. И дай мне жизни. Жизнь в том, чтобы участвовать в этом установлении твоего царства любви, сейчас, теперь, потому что в этом жизнь. И сделай так (или я желаю, чтобы было так), чтобы мои ошибки против любви (других нет), сделанные мною прежде, не мешали мне в этом, в жизни теперь; я же ошибки против любви других людей все изгоняю из своей памяти и сознания. И избавь меня (или боюсь же я) одного — это таких тяжелых положений раздражения, заблуждений, болезни, при которых нельзя или трудно участвовать в деле любви; от этого избавь, но пуще всего от злости — нелюбви во мне самом, в моем сердце.
Так я молюсь, разумеется всякий раз разными условиями жизни освещая молитву, и так стараюсь жить. И достигаю многого сравнительно с прежним. Учусь не осуждать, сейчас же перенестись в него, не сердиться на животных, на отсутствующих, воображаемых, не смеяться, учусь, главное, тому, чтобы не желать себе ничего, если можно, затем, чтобы очистить то место, которое должно наполниться любовью. И достигаю многого сравнительно. И с женой, и с Сережей, и с журналистами, и корреспондентами, и пьяными. И чем ближе к смерти, тем69 70 яснее вижу, что это одно дело нашей жизни, которое надо не переставая ставить выше всего. И дело огромное, бесконечное, оно включает в себе все, и само в себе носит доказательство истинности.
Ну, так вот, как же я могу не любить вас, и, простите, вникать в ваши рассуждения о волках. Знаю, что вы не волк и Чертков не волк, а все мы слабые, заблуждающиеся, текучие, как река, где глубокие и чистые, где мелкие и мутные.
То, что вы говорите о том, что в нашем положении наше дело есть первое отречение от богатства — правда. И непременно надо помогать друг другу, обличая. О себе я знаю, что я люблю, ищу в этом смысле обличения, люблю за него. И вас прошу сказать мне, как, вы думаете, мне бы в этом отношении надо поступать. Не бойтесь ошибиться, скажите, как думаете. Вы в этом отношении теперь видите ясно много такого, чего я не вижу.
Л. Т.
Печатается по копии М. Л. Толстой. Дата машинописной копии из AЧ подтверждается упоминанием этого письма под датой «9 апреля» в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на письмо Ге с почтовым штемпелем «Плиски 4 апреля 1890», написанное в ответ на письма Толстого от 20 и 22 марта.
1 В копии М. Л. Толстой явная описка: отцу вместо: концу. Восстанавливаем по машинописной копии AЧ.
61. Х.-В. Л. Кантеру.
1890 г. Апреля 9. Я. П.
Письмо ваше мне очень было приятно. То, что вы думали о противлении злу, совершенно верно, как вы и сами знаете.
Иногда грустно думать, что наше общество находится в таком глубоком мраке, что нужны большие усилия — те самые, к[оторые] вы употребили и к[оторые] не многие способны сделать — чтобы вырваться, с одной стороны, из сетей формального ложного христианства, с другой — из революционного либерализма, владеющего печатью, и понять самые простые истины, вроде 2 × 2 = 4 , в области нравственной, т. е. что не нужно делать того самого зла, с кот[орым] борешься. Ведь всё это, кажущееся сложным, положение о непротивл[ении] злу70 71 и возражения против него сводятся к тому, что вместо того, чтобы понимать, что сказано: злом или насилием не противься злу или насилию, понимается (мне даже кажется нарочно), что сказано не противься злу, т. е. потакай злу, будь к нему равнодушен; тогда как противиться злу, бороться с ним есть единственная внешняя задача христианства, и что правило о непрот[ивлении] злу сказано, как правило, каким образом бороться со злом самым успешным образом. Сказано: вы привыкли бороться со злом насилием, отплатой. Это нехорошее, дурное средство. Самое лучшее средство — не отплатой, а добром. Вроде того, как если бы кто бился отворять дверь наружу, когда она отворяется внутрь, и знающий сказал бы: не туда толкайте, а сюда тяните. — Но ведь это так только в нашем очень культурно отсталом обществе. В Америке, н[а]п[ример], вопрос этот 50 л[ет] тому назад разработан со всех сторон, и совестно говорить про это, вроде того, как доказывать теперь Коперникову1 систему тем, к[оторые] бы ее оспаривали, как оспаривали Галилея.2 Если хотите, возьмите в редакции Газеты Гацука3 статью Балу4 (одну из многих) об этом предмете. Так с одной стороны, говорю, иногда грустно на наше невежество, а с другой — видишь пользу этого; тот, кто, как вы, сам своим усилием пробьет эту кору лжи и непонимания, тот имеет задатки более твердого понимания и всего того, что связано с этим положением, чем тот, кому бы это разжевали и в рот положили. —
5В одном вы только не правы, это в том, что вы робеете итти за рассуждением в вопросе о бешеных. В идее нельзя допускать ни малейшего компромиса. Компромис выйдет неизбежно в практике (как вы верно говорите), и потому тем меньше можно допустить компромис в теории. Если я хочу провести линию, близкую к математ[ической] прямой, я ни на секунду не должен допускать того, что прямая может быть не кратчайшее расстояние между двумя точками. Если я допущу, что бешеного можно запереть, то я должен допустить и то, что его должно убить. — А то что же он будет мучаться? Возьмите пример с бешеной собаки. И ее нельзя ни запереть, ни убить. — Если я допущу, что очень бешеного можно запереть, то и немного бешеного, то и меня, и вас можно и нужно окажется для кого-нибудь запереть. И не бойтесь, как вы испугались, рассуждать на этом пути. Если можно запирать, то будет то насилие, от к[оторого]71 72 теперь стонет мир — в России 100 т[ысяч] заключенных; а если нельзя, то что же будет такого страшного? То, что бешеный убьет меня, вас, мою дочь, вашу мать? Да что же тут такого страшного? Умереть мы все можем и должны. А дурного делать мы не должны. Но, во-первых, бешеные редко убивают; а если убивают, то ведь предмет, который надо жалеть, которому надо помогать, не я, которого может еще только убить бешеный, а он — наверное изуродованный, страдающий; и помогать надо ему, думать о нем. Если бы люди не позволяли себе для своей безопасности запирать и убивать тех бешеных и так называемых преступников, то они бы позаботились о том, чтобы не образовывались вновь бешеные и преступники. А то я знаю случай совершенно дикого человека, нищего 45 лет, к[оторый] бродяжил с дочерью и не ночевал зимой в избах и изнасильничал свою дочь; другой случай, мальчика 11 лет, убившего свою сестру 5 лет и сделавшего из ее жира свечу, чтобы при воровстве отворялись все запоры; третий случай, моего ученика школы, отданного в ученики, споенного средой, допившегося до болезни мозга, и, для спокойствия своих домашних и окружающих, отданного в сумашедший дом и там умершего;6 все мы знаем Скублинскую.7 Ну, и вот их всех посудят, потом запрут, чтобы они нам не мешали приготовлять еще таких же, и мы говорим, что жестоко бы было оставить их на воле. — Нет, если бы они были на воле, у нас не было бы диких людей, ходящих под проволоками телефонов, не было бы мальчиков, делающих свечи из жира сестер, не было бы допивающихся до бешенства токарей, не б[ыло] бы Скублинских.
Очень рад буду прочесть то, чтò вы напишете о моем рассказе.8 Я на-днях написал к нему послесловие, к[оторое] оказалось необходимым написать, так уж смело притворялись люди, что они не понимают того, что там написано.
В Москве есть один мне близкий человек: Александр Никифорович Дунаев. Он служит в Торговом банке на Ильинке. Он может вам дать и послесловие, если вам понадобится, и другие мои писания ненапечатанные. —
Помогай вам бог итти по тому пути, на к[оторый] вы стали: он единственный.
Лев Толстой.
На конверте: Москва, Петровский бульвар, 1-й Знаменский пер., д. Каренина. В. Кантеру.72
73 Печатается по фотографии с автографа. Автограф находится в Славянском отделе Нью-йоркской публичной библиотеки. За границей (в Швейцарии) впервые по-русски напечатано без даты и без предпоследнего абзаца в журнале «Свободная мысль» 1900, 2, стр. 55—56. В России впервые опубликовано в том же объеме с ошибочной датой «1900 г.» в «Сочинениях графа Л. Н. Толстого», М. 1911, XX, стр. 292—294. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 9 апреля (см. т. 51, стр. 33).
Хаим-Вульф Липманович Кантер (William L. Kantor, p. 1866) — с октября 1890 г. эмигрант в США. В письме от 30 марта 1890 г. писал о «непротивлении злу злом», выражая свое единомыслие с Толстым.
1 Николай Коперник (1473—1543).
2 Галилей (1564—1642).
3 «Газета А. А. Гатцука» — еженедельная буржуазная газета, издававшаяся в 1880—1891 гг. А. А. Гатцуком (1832—1891)
4 См. прим. к письму № 26.
5 Абзац редактора.
6 Крестьянин деревни Ясная Поляна Василий Николаевич Румянцев (1837—1882?), работавший токарем на самоварной фабрике Воронцова в Туле.
7 См. статью Толстого «По поводу дела Скублинской», т. 27, стр. 536.
8 Рукопись Кантера о «Крейцеровой сонате» не дошла до Толстого. Она была утеряна при переезде Кантера в Америку.
* 62. В. В. Прозину.
1890 г. Апрель 9. Я. П.
Очень рад был узнать про вас, В[иктор] Васильевич].
То, что вы пишете про хотение, я вполне понимаю и нахожу справедливым. Вы называете требования совести, разума, божественного начала в человеке хотением и замечаете, что требования эти идут всё выше и выше. Это верно. В этом движении от низшего состояния к высшему, от большего и большего покорения животного начала духовному или личного, эгоистического — началу любви, — и состоит жизнь..... Я очень рад знать, что вы так думаете.
Но если вы думаете так всей душой, то почему же вы недовольны своей внешней обстановкой? Никакие внешние условия не могут препятствовать достижению главной цели жизни — движению от низшего состояния к высшему, усовершенствованию в любви не в словах только, но, главное, на деле. Для того же, чтобы усовершенствовать себя в любви и подниматься от низшего состояния к высшему, всякие условия годятся, и даже73 74 чем хуже эти условия (в мирском смысле), т. е. чем враждебнее к вам люди, окружающие вас, чем менее они вас понимают, тем удобнее вам показать им любовь.
«Если любите любящих вас, говорит Христос, что делаете особенного?»...
И потому, отвечая на ваш вопрос: можете ли вы у меня заняться хлебопашеством, я отвечаю, во-первых, по отношению вас то, что совсем вам не нужно, для осуществления главной дели жизни, итти или ехать за 1000 верст, а там, где вы теперь (и где бы ни был человек), вы можете вполне делать дело божье, т. е. подниматься от низшего состояния к высшему, быть готовым, любя, служить людям: если они позволят, то служить, а если не позволят (что трудно допустить), то продолжать отвечать на все их требования с готовностью и любовью. По отношению же меня лично на вашу просьбу я отвечаю тем, что я, во-первых, у себя не хозяин, а во-вторых, и слаб, и болен, и едва ли буду работать.
Так вот мое мнение, то, что если вы прислушаетесь к своему хотению, то вы никуда не пойдете, а останетесь у своих родных, перенося с смирением то мнение, которое они составили о вас, и с любовью отвечая на все их требования, если только они не противны вашей совести.
Верьте, что то, что пишу, пишу перед богом, имея в виду только ваше благо. Попробуйте то, что вам я говорю, и через 3 месяца напишите мне, что будет.
Печатается по машинописной копии из AЧ, ошибочно помеченной письмом к В. В. Рахманову. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 9 апреля (см. т. 51, стр. 34).
Виктор Васильевич Прозин (р. 1859 или 1860) — в то время сочувствовавший взглядам Толстого. Был у Толстого летом 1888 г.
Ответ на письмо Прозина из Рогачева от 28 марта 1890 г.
* 63. С. А. Рачинскому.
1890 г. Апреля 9. Я. П.
Благодарствуйте, дорогой С[ергей] Александрович], за письмо и присылку прекрасных статей ваших.1 Очень, очень радуюсь движению, кот[орое] вы подняли в этом направлении.2 Надо не умолкать и не давать заснуть. Впрочем, есть74 75 свои судьбы такого рода движений. Если оно своевременно, дрова сухи, то разгорятся, если нет, то сколько ни трудись, ничего не будет. Разумеется, это не доказывает того, что можно сказать, что дрова сыры, и перестать раздувать. На том мы и живем только, что авось на что-нибудь пригодимся, и потому никогда нельзя перестать. Мне кажется, так же как и вы пишете, что время благоприятно. У меня лежит прекрасная статья д[окто]ра Алексеева: история борьбы против пьянства, и мне очень хочется написать к ней предисловие.3 Разумеется, это для образованного класса. Образованный-то класс в этом отношении очень не образован. — Но всё не успею. Дел набирается перед смертью обратно пропорционально квадрат[у] расстояния.
Не говорите, что вы не разделяете моих религиозных воззрений; мы оба с вами разделяем не воззрения, а учение общего нашего учителя Хр[иста]; и как мне, так и вам дорого только оно, его положительное учение любви к богу и ближнему, любви к врагам, требование делать другому то, что мы хотим, чтобы нам делали. И будем держаться этого, и будем вместе соединены любовью, как он заповедал нам, — то самое, что мы одного желаем всей душой, и тем сильнее, чем ближе мы подходим к плотской смерти, к к[оторой] мы оба, слава богу, уже очень близки. — Так и будем просто, несмотря ни на какие особенности наших поверхностных взглядов, в глубине души сердце[м] любить друг друга, как я и всегда, даже нехорошо (не так, как велит Хр[истос], если любите любящих вас...) любил вас.
Л. Толстой.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 9 апреля (см. т. 51, стр. 34).
Сергей Александрович Рачинский (1833—1902) — ботаник, профессор, педагог. См. т. 61.
Ответ на письмо Рачинского из Татева от 26 марта 1890 г., с которым Рачинский послал Толстому свои статьи о борьбе с пьянством (письмо Рачинского опубликовано в юбилейном сборнике: «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 242—244).
1 Отдельные оттиски статей С. А. Рачинского: «Из записок сельского учителя» (из журнала «Русский вестник» 1889, 8, стр. 113—126) «Письмо к воспитанникам Казанской учительской семинарии» от 28 сентября75 76 1889 г. (из «Прибавлений» к «Церковным ведомостям» 1890. № 3 от 13 января).
2 Во втором отрывке статьи «Из записок сельского учителя» Рачинский рассказывает о создании им Татевского общества трезвости и его работе.
3 Предисловие Толстого к книге П. С. Алексеева о пьянстве, начатое в начале 1890 г., было закончено 11 июня и напечатано под заглавием «Для чего люди одурманиваются?» в книге: П. С. Алексеев, «О пьянстве», изд. журнала «Русская мысль», М. 1891, стр. 1—27. См. т. 27.
64. Д. А. Хилкову.
1890 г. Апреля 9. Я. П.
Письмо, к[оторое] я вам написал,1 Дмитрий Александрович, есть отчасти иллюстрация того, что я пишу в нем, что не надо готовиться говорить, когда не хочется, а говорить только то и тогда, когда хочется, а то выйдет ложь, как вы говорите. Так и в моем письме к вам ничего нет особенного, но мне неприятно о нем вспомнить; что-то не то. А вышло это п[отому], ч[то] я во что бы то ни стало решил написать вам. — Это навело меня на следующие мысли, к[оторые] хочется сообщить вам, а именно:
2Одна из больших и более всего повредивших распространению христианства ошибок была та, что, как евреев внешним образом — обрезанием — присоединяли к вере, так и христиан внешним образом, крещением, присоединяли к вере. А ведь это совсем нелепо и невозможно. Христианство тем и отличается от еврейства и всех внешних религий (магометанство, церковность), что оно ничего не учреждает, а открывает людям идеал, к кот[орому] им свойственно стремиться, и идеал недостижимый, или достижимый в бесконечности. Идеал только направление — как солнце на пути человека. И потому христианином нельзя быть так же, как можно быть евреем, магомет[анином], церковник[ом]. Нельзя сказать про себя или про другого, что я или он христианин, п[отому] ч[то] нет таких поступков, кот[орыми] бы я себя отличил от других как христианин. Еврей обрезался, соблюл субботу, магомет[анин] помолился 5 раз, отдал десятину бедным, церковник окрестился, поговел; но христианину нечего такого сделать. То, что ему нужно сделать — его идеал, отдать всего себя, всю свою жизнь в жертву богу76 77 и людям, он, очевидно, всего далеко еще не сделал. Так что же ему показать, чтобы выказать себя христианином? Нечего.
Одно, что можно сказать, что христианин отличается от не христианина тем, что в жизни своей он руководится идеалом Христа, стремится к нему, в достижении его кладет свою жизнь, а не христианин не считает этого обязательным для себя, успокаиваясь исполнением внешних обрядов. Но и тут нельзя про себя сказать, что я христианин больше, чем не христианин, — татарин, поп и т. п. Как сказал какой-то писатель, «душа человека христианка». Это правда, и у еврея, несмотря на соблазн успокоения внешними обрядами, есть тоже, хотя и бессознательно, стремление к добру, к[оторое] указал нам Хр[истос]. А мы, исповедующие Христа, ведь бываем неровны: иногда мы точно всей душой готовы служить богу и людям, а иногда мы спим, как скоты, и не лучше, а хуже татарина, еврея или церковника, у к[оторых] заговорила душа. Так что христианина не только нет и не может быть в том грубом смысле, что окрестил Владим[ир]3 и стали христиане, — но и в том смысле, что люди стараются исполнить всё учение Христа в жизни, ставят себе это главной целью, и то они не христиане, а живут Христовой истиной только временами, и называться христианами не то, что не имеют права, а название это неточно. Человек не озеро, а река, да еще река, как в степи, где местами пересыхает. Так что река то широка, то глубока, то мелка, то грязь одна, то мутна, то чиста, то быстра, то тиха; а всё одна. Так и человек, то к Христу близок, то к свинье. И надо это знать. И когда это знаешь, то легче подвигаться к Хр[исту] и уходить от свиньи. А если вообразить, что я христианин, стало быть, почти святой, то и не разберешь, где начинается свинья и кончается человек. — Есть христианское учение, есть христианский идеал, но христиан нет и не может быть. —
Всё это я думал именно по случаю моего последнего ненатурального письма к вам. Как я ни хотел написать вам тогда хорошее письмо, — не мог. И не надо было писать. Надо уметь различать в себе человека от животного — только тогда можно поощрять человека и оставаться равнодушным к животному, не поощрять его. Всё это можно делать только, когда умеешь различать. —
Вам пишу это особенно, п[отому] ч[то] по вашим письмам77 78 мне кажется, что вы близки к такому взгляду и согласитесь со мной.
Мой привет вашей семье.
Кто с вами теперь?
Л. Толстой.
Впервые почти полностью опубликовано в журнале «Голос Толстого и Единение» 1920, 2 (40), стр. 3. Дата, имеющаяся на машинописной копии, подтверждается записью в Дневнике Толстого 9 апреля (см. т. 51, стр. 34).
1 См. письмо № 54.
2 Абзац редактора.
3 Владимир Святославович, великий князь киевский. По летописным записям, «крестил» Русь в 988 г., княжил с 980 до 1015 г.
65—67. В. Г. Черткову от 18, 22 и 24 апреля 1890 г.
68. П. Г. и А. В. Ганзен.
1890 г. Апреля 25. Я. П.
Петр Готфридович! Отвечаю вам и вашей жене вместе. Во-первых, благодарю вас за ваши письма и присылку книг и портрета.1 Очень бы желал удосужиться, чтобы выучиться по-датски; но теперь нет времени. Послесловие я опять переработывал, и кажется, что оно улучшилось. И кажется тоже, что я уже не в силах более его переделывать.2 Разные подробности о послесловии и комедии3 передаст вам Ив[ан] Ив[анович].
На ваши вопросы о воспитании и о религии ответить в письме не могу.
На вопросы о боге, о загробной жизни, о смысле жизни, я, как умел, старался ответить в своей книге о жизни, и, простите мою самонадеянность, полагаю, что ответил достаточно ясно, но только для того, кто захочет со мной вместе итти с того места и тем путем, к[оторым] я иду. Во всяком случае, если я там не ответил, то в письме уже никак не отвечу на все эти вопросы, кот[орые] я, именно те же самые, ставил себе. Это ответ на 2-й ваш вопрос о религии.
Ответ же на первый — о воспитании религиозном и нравственном — вытекает из 2-го. Воспитание волченка, ласточки и ребенка подчиняется одному закону: воспитываемый подчиняется,78 79 как нынче говорят, внушениям воспитателя, и потому для того, чтобы хорошо воспитать, надо самому быть хорошим. Всё воспитание в этом. И это очень радостно, п[отому] ч[то] лишнее побуждение к совершенствованию.
Что же касается до ответов на вопросы, к[оторые] задают дети о боге, будущей жизни и т. п., то ответы эти не важны. Разумеется, лучше ответить разумно; но если бы и отвечать совершенный вздор, как это мы видим на опыте, как, н[а]п[ример], то, что бог троица послал своего сына искупить грехи и т. п., то это не беда. Дети, еще больше, чем большие, не верят словам и не обращают на них внимания, а верят делам. И потому опять всё сводится к примеру нравственной, доброй жизни. А для руководства в доброй жизни совсем не нужно знать, что такое бог, что будет на том свете и т. п. Добро ведь тогда только добро, когда делается без всякого ожидания наград, а только для добра, и потому делать его можно, не рассуждая ни о боге, ни о вечной жизни. И стоит начать делать его, чтобы увидать, что и бог и вечная жизнь и есть это самое делание добра. — Жму ваши руки и желаю вам всего хорошего.
Л. Толстой.
Печатается по машинописной копии из A4. Автограф находился у адресата в Копенгагене. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 46. Дата машинописной копии.
Петр Готфридович Ганзен (Hansen Peter Emanuel, 1846—1930) — датчанин, переводчик, писатель и педагог, принявший русское подданство. Перевел на датский язык ряд произведений Толстого; автор воспоминаний о Толстом «Пять дней в Ясной Поляне. (В апреле 1890 г.)» — «Исторический вестник» 1917, 1 (CXLVII), стр. 140—161, и статьи «Толстой и Ибсен» — газета «Politiken», номер от 25 декабря 1917 г.
Анна Васильевна Ганзен, рожд. Васильева, — вторая жена П. Г. Ганзена, переводчица.
Ответ на письма П. Г. и А. В. Ганзен от 16 апреля 1890 г. по поводу переводов «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения» на датский язык и с вопросами о религиозном воспитании.
1 Портрет датского писателя Серен Обю Киркегора (Sören Kierkegaard, 1813—1855), представляющий фотографию с рисунка карандашом 1838 г., и две его книги: «Enten-Eller» («Одно из двух») и «Stadien paa Lebens» («Стадии жизненного пути»).
2 Ганзен, кончавший в то время свой перевод «Крейцеровой сонаты» на датский язык, писал Толстому, что ожидает последнюю версию «Послесловия» для перевода и напечатания вместе с «Крейцеровой сонатой».79
80 Послесловие было привезено в Петербург И. И. Горбуновым-Посадовым, с которым было прислано и это письмо Толстого Ганзену.
3 Ганзен писал Толстому: «Не успел я еще приступить к переводу комедии Вашей.... «Плоды просвещения», а из Копенгагена уже сделали мне запрос о разрешении поставить ее на сцену в моем переводе. Насколько мне известно, театр этот — «Dagmartheatret» — пользуется хорошей репутацией, и весьма интересно посмотреть со временем, какой выйдет результат из этой попытки, которая, если состоится, является первой попыткой поставить русскую пьесу на датскую сцену».
69. Г. А. Русанову.
1890 г. Апреля 27. Я. П.
С большой радостью получил ваше длинное (жалею, что оно было не длиннее) и потом короткое [письмо] и каждый день собираюсь ответить и не успеваю: то письменные занятия (послесловие, к[оторое], кажется, кончил и послал в П[етер]б[ург] и Черткову, вам пришлю), то посетители, то теперь работа в поле, к[оторой] предаюсь с большой радостью. Не успеваю написать как следует, а письмо ваше остается неотвеченным. Хоть как придется напишу.
1Благодарю вас за ваше письмо. Я его читал про себя и вслух жене и знакомому. Ваше суждение о смысле Кр[ейцеровой] С[онаты] разумеется вполне верно. Вы меня знаете и понимаете лучше меня самого. И это не шутка. Во время процесса — иногда (особенно последний раз) болезненного прохождения через меня мыслей — я не успеваю их усвоить. И часто, от других слыша их, я понимаю яснее. А я не знаю никого, кто бы так тонко и верно понимал мои мысли, как вас. —
Очень, очень рад был слышать о вас. Узнал о вас еще и по письму Пастухова.2 Ни на ком больше, как на вас, не видно того, какое суеверие — телесное здоровье. Я знаю это и по себе. Не могу я так прыгать, бегать, как прежд[е], скоро не буду в состоянии так ходить и совсем ходить. Какая же разница? Разница в большей или меньшей степени одного из самых несущественных моих свойств. Вот если бы вы и я лишились бы способности любить. А этого нет. Про себя скажу, что с каждым годом, часом всё легче хоть не любить, а не злиться, прощать и радоваться на доброе. Уверен, что у вас тоже, и желаю вам одного этого.80
81 3Целую вас, вашу жену4 и детей. Сколько старшему5 теперь? В каком классе?
Л. Толстой.
Сейчас у меня Гайдебуров,6 издат[ель] Недели, и читает ваше письмо. Я после перечту его еще и посмотрю, нет ли там вопросов. Тогда отвечу. Жена хочет рассказ напечатать в 13 томе.7
Передайте мою любовь Буланже.8 Если увидите Алмазова,9 передайте ему просьбу, чтобы он не сердился на меня за то, что не отвечал на его прекрасное письмо, и благодарность за его муку, к[оторую] ем, его поминая. Он мне очень полюбился.
На конверте: Воронеж. Гавриле Андреевичу Русанову.
Впервые опубликовано с искажением в журнале «Вестник Европы» 1915, 3, стр. 17—18. Дата определяется почтовым штемпелем: «почтовый вагон, 28 апреля 1890» и записью в Дневнике Толстого 30 апреля о посещении Гайдебуровым Ясной Поляны 27 апреля (т. 51, стр. 39).
Гавриил Андреевич Русанов (1845—1907) — воронежский помещик, бывший член окружного суда в Харькове, близкий знакомый Толстого, болевший сухоткой спинного мозга и лишенный возможности передвигаться. См. т. 63, стр. 217.
Ответ на пространное (в 16 листов почтовой бумаги) письмо Русанова, датированное мартом — апрелем 1890 г. (в конце письма дата: «13 апреля 1890 г.»; дополнения к письму датированы 15 апреля 1890 г.).
1 Абзац редактора.
2 См. прим. к письму № 74.
3 Абзац редактора.
4 Антонина Алексеевна Русанова (1855—1905). См. т. 73.
5 Старший сын Русанова Андрей (р. 1874), в то время перешел в шестой класс гимназии.
6 Павел Александрович Гайдебуров. См. прим. к письму № 167.
7 Повесть «Крейцерова соната» и «Послесловие» к ней были напечатаны в «Сочинениях графа Л. Н. Толстого. Часть тринадцатая. Произведения последних годов», М. 1890. Книга эта вышла в 1891 г.
8 Павел Александрович Буланже (1864—1925). См. о нем в т. 63, стр. 350. Живя в 1890 г. в Екатеринославе, Буланже вел переписку с Г. А. Русановым. В письме от 13 апреля Русанов цитирует письмо к нему Буланже о впечатлении, произведенном «Крейцеровой сонатой» на екатеринославское общество.
9 Алексей Иванович Алмазов (1838—1900), врач, живший в то время в своем имении в Воронежской губ.
* 70. Э. Ж. Диллону (E. J. Dillon).
1890 г. Апреля 29. Я. П.
Получил ваше очень приятное мне письмо, Эмилий Михайлович, и не отвечал тотчас же телеграммою, потому что был уверен, что И. И. Горбунов разъехался с вашим письмом и что вы получите от него Послесловие в то же время, как я получил ваше письмо.
Я вообще не обращаю никакого внимания на издание моих писаний и переводов с них и только благодарен тем, которые их распространяют в какой бы то ни было форме.1 Но вы, как я вижу из вашего письма, с такой серьезностью относитесь к этому делу, что я чувствую себя обязанным помочь вам, сколько могу, в этом деле.
Если бы вы напечатали с Послесловием в первой версии,2 то ничего дурного бы не было, так как в следующей версии прибавлено к нему не много и ничего не изменено; но кажется мне, что последняя будет яснее и полнее.
Этому делу никогда не бывает конца. Я и теперь думаю о том же, и всё кажется, что нужно бы еще много уяснить и прибавить. И это понятно, потому что дело такой огромной важности и новизны, а силы, без ложной скромности говоря, так слабы и несоответственны значительности предмета.
Поэтому я думаю, что всем надо работать, — тем, кого это, как вас, интересует сердечно, — всем надо разрабатывать этот предмет по мере сил своих. Если каждый с своей личной точки зрения скажет искренно то, что он думает и чувствует об этом предмете, то многое темное уяснится, привычно лживо скрытое откроется, кажущееся странным по непривычности видеть это перестанет казаться таким, и многое, кажущееся естественным по привычке жить дурно, перестанет казаться таким. По счастливой случайности я больше, чем другие, имел возможности обратить внимание общества на этот предмет. Надо, чтобы другие продолжали дело с разных сторон.
Статья Стеда очень легкомысленна и даже нехороша.3
Желаю вам успеха в этом деле и всего доброго.
Печатается по копии из AЧ рукой В. Г. Черткова. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 30 апреля: «29) Писал письмо.... Диллону» (см. т. 51, стр. 39).82
83 Ответ на недатированное письмо Диллона на русском языке из Петербурга с почтовым штемпелем: «Москва, 23 апреля 1890», в котором Диллон сообщал, что перевел на английский язык «Крейцерову сонату» и «Послесловие» к ней по версии, привезенной П. Г. Ганзеном в Петербург; просил разрешения опубликовать его перевод в Англии, куда он должен был уехать через несколько дней.
1 Слово: форме поставлено в копии В. Г. Черткова в круглые скобки, вероятно взамен пропущенного Толстым слова.
2 То есть по предпоследней версии от 6 апреля 1890 г., привезенной из Ясной Поляны П. Г. Ганзеном.
3 Вильям-Томас Стэд (Stead, 1849—1912), английский публицист, основавший в 1890 г. журнал «Review of Reviews». См. т. 64, стр. 216.
Упомянутая Толстым статья Стэда «The Story of the Month: Count Tolstoi’s Kreutzer Sonata» — «Review of Reviews» 1890, 4 («Литературная новинка месяца: Крейцерова Соната графа Толстого»).
По возвращении из Англии Диллон в письме к Толстому от 9 сентября 1890 г. сообщал «о своих безуспешных стараниях издать буквальный перевод «Крейцеровой сонаты». Диллон писал, что издатель Вальтер Скотт напечатал его перевод «Крейцеровой сонаты» со своими пропусками, «изуродовав оригинал».
71. Ф. А. Желтову.
1890 г. Апреля 29. Я. П.
Подучил ваше письмо, дорогой Ф[едор] А[лексеевич], и очень порадовался тому, как вы глубоко вникаете в нравственно-религиозные вопросы и верно понимаете их.
Да, я так думаю, что брак есть не христианское учреждение. Христос никогда не женился, не женились и его ученики, и он никогда не учреждал брака, а обращаясь к людям, из которых одни были женаты, а другие нет, говорил: женатым, чтобы они не переменяли своих жен (разводясь), как это можно было по закону Моисея (Мф., V, 32), а не женатым, чтобы они, если могут, то лучше не женились бы (Мф., XIX, 10—12). И тем же и другим говорил, чтобы они понимали, что главный грех состоит в том, чтобы смотреть на женщину, как на предмет наслаждения (Мф., V, 28) (само собой разумеется, что то же надо понимать и со стороны женщины по отношению мужчин).
Из этих положений естественно вытекают следующие практические нравственные выводы:
1) Не смотреть, как теперь смотрят, что каждому молодому человеку, мужчине, девушке, нужно непременно вступить в83 84 брак, а, напротив, смотреть так, что каждому человеку, мужчине и женщине, лучше всего соблюсти свою чистоту для того, чтобы ничто не мешало отдать все свои силы на служение богу.
2) Не смотреть, как теперь, на падение человека, мужчины или женщины, т. е. на вступление в половое общение, как на ошибку, которую можно исправить вступлением в половое общение (в виде брака) с другим лицом, или даже как на простительное удовлетворение потребности, или даже удовольствие; а смотреть на первое вступление в половое общение кого бы то ни было, с кем бы то ни было, как на вступление в неразрывный брак (Мф., XIX, 4—6), обязывающее брачущихся к определенной деятельности, служащей искуплением совершенного греха.
3) Не смотреть на брак, как теперь, как на разрешение удовлетворения плотской похоти, а как на грех, требующий своего искупления. Искупление же греха состоит, во-первых, — в освобождении себя, помогая в этом друг другу, обоим супругам от похоти и достижения насколько возможно установления между собой отношений не любовников, а брата и сестры; и, во-вторых, в воспитании тех детей, будущих служителей богу, которые возникнут от брака.
Разница такого взгляда на брак от того, который существует, очень большая: точно так же будут жениться и выходить замуж; точно, так же родители будут заботиться о том, чтобы женить и выдавать замуж детей; но разница большая в том, когда удовлетворение похоти считается возвышенным, законным и самым большим счастием на свете, или когда оно считается грехом; человек, следуя христианскому учению, женится только тогда, когда он будет чувствовать, что не может поступить иначе, и, женившись, будет не предаваться похоти, а стремиться к укрощению ее (мужчина так же, как и женщина); родители, заботясь о духовном благе своих детей, не будут считать необходимым женить каждого и выдавать замуж, а женят и выдадут замуж (т. е. посоветуют им, облегчат им падение) только тех, которые не в силах удержать чистоту, и тогда когда будет ясно, что дети не могут жить иначе. Супруги не будут гордиться, как это бывает теперь, большим количеством детей, а напротив, стремясь к чистоте жизни, будут радоваться тому, что у них мало детей и они могут посвятить все свои силы на воспитание тех своих детей, которые уже есть, и тех чужих детей, которым84 85 они могут служить, если они хотят служить богу воспитанием будущих служителей ему. Разница будет та, которая есть между людьми, которые употребляют только пищу п[отому], ч[то] не могут обойтись без этого, и потому стараются как можно меньше тратить времени, сил и внимания на приготовление и потребление пищи, и теми, которые кладут в придумывание, приспособление, увеличение вкуса и в потребление пищи главный интерес жизни, как это до последней степени доводили римляне, которые принимали рвотное, чтобы быть в состоянии опять есть. Совершенно то же самое — средства, употребляемые для нерождения детей.
Я написал об этом предмете послесловие к Крейцеровой Сонате, которое, когда оно будет готово, сообщу вам. Очень, очень радуюсь тому единению духовному, которое чувствую с вами, и не удивляюсь ему, потому что мы черпали из одного источника. Целую вас и ваших семейных и друзей.
Ваше толкование слов: «кроме вины любодеяния» я нахожу по духу верным, но слишком искусственным, каким я признаю некоторые толкования из: «В чем моя вера?»1 Дух один: чем целомудреннее, тем ближе к учению Христа. И это всякий знает и чувствует всем существом.
Печатается по рукописной копии из AЧ. Автограф, по сообщению адресата, сгорел. Впервые, почти полностью, опубликовано в сборнике «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch, Hants, England, 1901, стр. 47—50. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 30 апреля: «29) Писал письмо Желтову» (см. т. 51, стр. 39).
Ответ на письмо Ф. А. Желтова из села Богородского, Нижегородской губ., от 12 апреля 1890 г., сообщавшего свои мысли о половой жизни и о браке в связи с чтением им «Крейцеровой сонаты».
1 Желтов писал по поводу толкования указанных слов евангелия в шестой главе книги Толстого «В чем моя вера?».
На письмо Толстого Желтов ответил письмом от 21 мая 1890 г.
72. Неизвестному.
1890 г. Март — апрель? Я. П.
Я всей душой сочувствую всякого рода борьбе против этого страшного бедствия и полагаю, что в наше время всякому мыслящему человеку, ввиду всего происходящего от пьянства зла,85 86 нельзя оставаться к этому вопросу безразличным, а надо или сказать себе, что для меня гораздо важнее иметь удовольствие выпить, когда мне хочется, и угостить приятелей, чем знать то, что я помогаю этим погибели народа, и потому я, не обращая на это никакого внимания, буду продолжать пить в свое удовольствие и угощать других, или сказать себе, что я как мыслящий и честный человек, видя всё зло, происходящее от употребления вина, не могу участвовать в этом зле и потому не буду ни пить, как бы то мало ни было, ни угощать других, ни равнодушно смотреть, как люди будут отравлять себя. И я очень радуюсь тому, что чаще и чаще встречаю людей последнего разряда, к кот[орым] принадлежите вы и от кот[орых] зависит спасение нашего народа от страшного, давящего его бедствия.
Печатается по машинописной копии из AЧ, сверенной с рукописной копией. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 52. Дата рукописной копии.
73. А. С. Буткевичу.
1890 г. Апреля 30. Я. П.
Прочел ваше письмо к Пастухову,1 дорогой Анатолий Степ[анович], и не скажу, чтобы я опечалился его содержанием. Вы знаете так же, как я, что дороги и важны не общины, а люди и их отношения между собой. Если бы можно было жить не греша или скорее не выбираясь из греха, то было бы царство бога на земле, и трудно представить себе, зачем бы жить.
То, что происходит между вами, не есть помеха в жизни, задержка, которую надо как-нибудь перескочить и потом жить, а эти-то затруднения и есть сама жизнь, на которую надо направлять всё свое внимание и всю способность смирения, самоотречения и любви, посредством которых только и можно преодолеть эти кажущиеся трудности и [перейти]2 от смерти к жизни.
Главное препятствие мне всегда представляется в такого рода затруднениях это гордость, тщеславие, забота о славе людской, о том, что скажут. Если хорошенько поискать в своей душе и отыскать запрятавшиеся по углам и скрывающиеся под другими названиями остатки этих грехов, — отыскать и выкинуть, то все затруднения уничтожаются. Ну прекрасно, ну я непоследователен,86 87 ну я легкомыслен, ну я лжив, ну я дрянь, но только бы никто не сердился на меня, не страдал бы из-за меня, только бы я мог внести в отношения людей больше любви и согласия. Стоит сказать себе это, и всё разрешается, точно как вынули маленькую соринку, из-за которой винт не входил на свое место.
Пишу это не к вам исключительно, но к Исааку,3 и вашим сотоварищам и друзьям.
В практическом отношении смело даю4 совет, в правде которого и приложимости которого не могу сомневаться.
Есть в шахматах задача, называемая проблемой коня, она решается сложнейшим математическим вычислением высшей математики; и существуют томы, написанных о ней вычислений, и всё решения полного нет. И вместе с тем решается эта задача несомненно самым простым, понятным каждому, практическим способом: всякий ход должен быть сделан на такую клетку, с которой наименьшее число ходов.
То же самое в жизненных вопросах, когда их хочешь решить наивысшим по отношению нравственности способом; существует такой простой практический прием: избрать тот поступок, при котором, при равном нравственном значении, наименьшая перемена, наименьшая практическая деятельность.
Так и при вашем вопросе: продолжать ли общину или разъехаться? спросите себя, при какой альтернативе меньше хлопот, меньше надо предпринимать. Это и будет более нравственно, будет то, что должно делать. Для того же, чтобы спокойно взвесить это, надо изгнать всякое воспоминание о долгах должников наших, вызвать любовь.
И это вы наверное уже сделали. Помогай вам бог.
Важнее всех общин в мире попросить прощения у человека, который сердится на меня. В этом одном жизнь.
Пишу, чувствуя вас всей душой и любя вас, и Исаака, и ваших жен и детей.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Подлинник был отобран жандармами в Туле в 1911—1913 гг., вместе с большинством писем Толстого к Буткевичу при аресте врача Г. Д. Лейтейзена, везшего эти письма Черткову. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 50—51. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 30 апреля (см. т. 51, стр. 38).
Анатолий Степанович Буткевич (1869—1942) — ученый пчеловод, знакомый Толстого с 1886 г.; автор воспоминаний о Толстом. В 1889 г.87
88 и первой половине 1890 г. жил в Глодосской земледельческой общине, основанной И. Б. Файнерманом.
Ответ на письмо Буткевича к А. А. Пастухову (см. письмо № 74) от 8 апреля 1890 г., пересланное последним Толстому. Буткевич писал о разногласиях среди членов Глодосской общины и о возможности ее ликвидации; высказывал своп мысли о неудачах в построении общинной жизни.
1 В копии ошибочно: Пастуховой
2 В копии точки, означающие неразборчивое слово, дополненное по смыслу.
3 И. Б. Файнерман.
4 В копии ошибочно: дают
На письмо Толстого Буткевич отвечал из Глодосс письмом от 2 июня 1890 г.
74. А. А. Пастухову.
1890 г. Апреля 30. Я. П.
Спасибо за ваше письмо, А[лексей] А[лексеевич], и за хорошие вести о Дольнере и Русанове. От Русанова я получил письмо.1
В деле Ф[айнермана], т. е. в размолвке, я еще не вижу ничего дурного. Без этого не может быть; только бы они не торопились, не смотрели бы на эти недоразумения, как на помеху для жизни. Ведь устранение этих недоразумений, развязывание их и составляет самую жизнь. Я уверен, что они развяжут грех. Я писал Буткевичу.2
Радуюсь очень за вас, что вы переезжаете к Дольнеру, и главное тому кроткому и доброму настроению, в котором находитесь.
Теперь весна, люди передвигаются и ко мне заходят и заезжают. То был Горбунов, то Рахманов, то Буткевич.3 Теперь Золотарев.4 И всё такие светлые, сильные, радостные. Помоги и вам бог быть таким.
Посылать вам не стоит того, что есть. Я не знаю, что есть; Маши нет дома.5 Да пусть она пришлет сама.
А вы зайдите к моей сестре,6 передайте ей мой поклон и напишите о ней, что жива ли, здорова ли.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Автограф сгорел. Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 48. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 30 апреля (см. т. 51, стр. 38).88
89 Алексей Алексеевич Пастухов (р. 1868) — бывший воспитанник Академии художеств, с 1889 г. учитель рисования сначала в Белеве, потом в Туле. См. т. 64, стр. 300—301.
Ответ на письмо Пастухова из Белева от 15 апреля 1890 г., в котором Пастухов писал о разногласиях в Глодосской общине Файнермана и сообщал, что пересылает письмо об этом А. С. Буткевича к нему (см. прим. к предыдущему письму); кроме того, Пастухов упоминал о своем посещении Дольнера и Русанова в Воронеже и передавал свои впечатления от этого посещения.
1 См. прим. к письму № 69.
2 См. предыдущее письмо.
3 Андрей Степанович Буткевич (1865—1948), врач, брат Анатолия Степановича Буткевича. В 1890 и 1891 гг. жил на хуторе в Одоевском уезде близ г. Крапивны и нередко бывал в Ясной Поляне по дороге с хутора в Тулу.
4 О В. П. Золотареве см. в прим. к письму № 84.
5 Пастухов писал о своем желании переписать «Крейцерову сонату», прося Марию Львовну выслать для этого экземпляр повести.
6 Мария Николаевна Толстая (1830—1912), в то время монахиня Шамординского женского монастыря. См. о ней в т. 59.
75. Е. И. Попову.
1890 г. Апреля 30. Я. П.
Долго не отвечал вам, дорогой Евгений Иванович. Простите. Отвечать, по правде сказать, было нечего.
Мысли ваши о боге я понял, но неясно, как и выражены. Вы говорите: зачем писать определения бога? Я совершенно согласен с вами. Я написал тогда, потому что Чертков просил меня сказать самым хотя бы неопределенным образом. «Я могу, пойму с полуслова, что вы думаете, когда произносите слово бог»,1 И таким образом, именно, не желая определять бога, как в Богословиях, а как то думает Матью Арнольд,2 объясняя, что он подразумевает под словом «бог», когда его употребляет. Такое определение не опасно. Но и то лучше не делать этого.
Нынче приехал милый Золотарев и рассказал про вас всё хорошее, именно, что вы находите поддержку духовную в сознании того, что жизнь только в настоящем.
Представьте себе, что последнее время я это самое вызываю в себе, молюсь так, кроме «Отче наш», в котором ведь это самое сказано. Говорю я себе так: «Жизнь твоя и благо твое не в том, чтобы вызывать известное духовное состояние в известном человеке,89 90 не в том, чтобы написать хорошо и ясно то-то и то-то, не в том, чтобы вспахать, посеять, помочь материально или духовно тому-то (о том, что жизнь не в своем личном наслаждении — к этому в сознании уже привык, хотя и страшно далек от этого на практике); жизнь твоя в том, чтобы сейчас, теперь всё свое внимание употребить на то, чтобы поступить наилучшим образом, по-божески в эту минуту, не рассчитывая на то, что из этого выйдет — главное не рассчитывать, что выйдет, зная вперед, что, делая, мы не можем знать, что выйдет, зная то, что никакое совершенство — ни ума, ни силы, ни доброты — недоступно человеку, а только одно: соответствие меня, какой есмь, требованиям настоящей минуты, а для соответствия этого не нужно ничего, ни здоровья, ни ума, ни спокойствия; нет такого положения, в котором я не мог бы достигнуть этого соответствия: я могу его достигнуть и больной, и глупый, и в самой большой суете.
Так ли вы думаете? Целую вас. Что жена3 пишет? Как живет? Я живу хорошо, жизнь полна и радостна, насколько достигаю этого соответствия.
Лев Толстой.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Впервые опубликовано в ПТС, I, № 151, стр. 189—190. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 30 апреля (см. т. 51, стр. 38).
Ответ на недатированное письмо Попова из Москвы с почтовым штемпелем: «Москва, 14 апреля 1890», в котором Попов спрашивал, как Толстой определяет слово «бог».
1 Цитата из письма В. Г. Черткова от 19 мая 1887 г. См. т. 86, стр. 59:
2 Mattew Arnold (1822—1888), английский богослов, критик и поэт.
3 Елена Александровна Попова, рожд. Зотова.
* 76. И. Д. Ругину.
1890 г. Апреля 30. Я. П.
Спасибо за письмо, Иван Дмитриевич. В особенности спасибо за то, что пишете радостного и хорошего об Алехине и общине. Я всегда видел в нем способность и потребность судить себя, каяться, а при этой способности человек всегда идет вперед. Я живу хорошо, начал работать, чего никак не ожидал по слабости сил; но до сих пор — ничего. Часто заходят и заезжают:90 91 то был Буткевич Андр[ей], то Горбунов, то Рахманов (он пошел к Алехину), то теперь (нынче пришел) Золотарев;1 он едет к отцу в Черниговск[ую] губернию. Все они такие светлые, растущие и спокойные, твердые, что сердце радуется. Золотарев тоже один из тех будет, к[оторые], как Поша, и вы, и Ге, и Рубан,2 Хилков и Прокопенко,3 и еще, вероятно, некоторые, к[оторые] просто избирают самую естественную и серую жизнь, не приобретая для этого, но пользуясь для этого тем, что есть. И я думаю, что это одно из хороших положений.
Целую вас и Пошу.
Л. Т.
Лепоринская лучше бы не приезжала, как бы не было греха от этого.4
На конверте: Кострома. Павлу Ивановичу Бирюкову. Для И. Д. Ругина.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 30 апреля (см. т. 51, стр. 38).
Иван Дмитриевич: Ругин (р. 1866) — в начале 1890 г. работал в смоленской общине А. В. Алехина Шевелево, затем на хуторе П. И. Бирюкова в Костромской губ. См. т. 64, стр. 315.
Ответ на письмо Ругина с хутора Бирюкова от 23 апреля 1890 г., сообщавшего о причинах своего ухода из общины и о впечатлении от знакомства с А. В. Алехиным.
1 Василий Петрович Золотарев. См. прим. к письму № 84.
2 О Григории Семеновиче Рубан-Щуровском см. прим. к письму № 212.
3 Семен Павлович Прокопенко (р. 1865), участник Харьковской общины, основанной М. В. Алехиным.
4 Ругин сообщал, что в Ясную Поляну намеревается приехать фельдшерица Лепоринская и что Марии Львовне, лечившей окрестных крестьян, полезно бы было с ней познакомиться. Толстой высказывал по этому поводу опасения, что приездом Лепоринской будет недовольна Софья Андреевна, которая не сочувствовала занятиям дочери медициной.
* 77. Д. А. Хилкову.
1890 г. Апреля 30. Я. П.
Да, Дмитрий Александрович, вы верно замечаете, что, хотя и нельзя себя назвать и считать христианином по жизни и делам, все-таки есть различие между человеком, к[оторый] ставит перед собой идеал Христа, в приближении к нему кладет91 92 благо своей жизни, и тем, к[оторый] этого не делает и не считает для себя учение Христа обязательным. Различие это есть, и мы его знаем по себе, по разным периодам своей жизни; но чем меньше мы будем обращать на него внимание, тем легче будет для нас самих, тем легче нам будет любить людей и не делать между ними подразделений. —
Нет, я не думаю, чтобы вы обманывали себя. Если же замечу, с радостью скажу вам. И вы то же делайте со мной. —
Весной передвижение, и беспрестанно ко мне заходят люди молодые — светлые, спокойные, чистые, радостные. То был Буткевич Андрей, то Рахманов, его шурин, врач же, то Горбунов, то теперь Золотарев Черниговский — едет к отцу. И письма получаю такие же радостные. —
Письмо Т[регубова]1 показывает, что его мысль работает по верному направлению, но что он не додумался еще до конца и напрасно робеет перед тем, в чем нет ничего страшного — именно в том, что брака христианского никогда не было и быть не может, как никогда не б[ыло] собственности христианской и мн[огого] др[угого]. Но есть отношение христиан[ское] к браку, как и к собственности. Отношение хр[истианина] к собственности то, что хотя я рубаху и считаю своею, но все-таки считаю нужным отдать ее, когда ее потребует другой, также и к браку отношение хр[истианина] то, что мое соединение с женщиной есть самый законный, неразрывный брак и что в этом браке я должен стремиться с женою своей к 2-м делам, во 1-х, к наилучшему перед богом воспитанию детей наших и, во 2-х, к освобождению нас обоих от соблазна похоти по мере сил и установлению вместо любовно плотских любовно духовных отношений. Если только понимать хорошо и ясно, что падение грех, соединение с женщиной есть не, как теперь считается, дело поправимое с другою, а есть единственный неразрывный брак, составляющий искупление греха, то ясно, что только при таком взгляде может увеличиваться целомудрие людей.
2Ну, пока прощайте. Что ваша высылка?3 Привет вашей жене и матери.
Л. Т.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 30 апреля (см. т. 51, стр. 38).
Письмо Хилкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.92
93 1 Иван Михайлович Трегубов (1858—1931). См. о нем в т. 66. Упоминаемое Толстым письмо Трегубова неизвестно.
2 Абзац редактора.
3 Хилков был выслан в 1892 г. на Кавказ.
78. В. Г. Черткову от 4 мая 1890 г.
79—80. С. А. Толстой от 4 или 5 мая и 6 мая 1890 г.
81. H. Н. Страхову.
1890 г. Мая 18. Я. П.
Получил и вашу книгу,1 и ваше письмо, дорогой Николай Николаевич. Из книги вашей начал читать то, чего не читал: атмосферн[ые] явления2 и след[ующее].3 Теперь прочту, что вы указываете.4 Я заболел дней 18 тому назад и теперь еще не справился. И болезнь очень хорошо, особенно при тех заботах, к[оторыми] я окружен, и так мало страданий, и так много поучительн[ого], подвигающего. —
Почему вы говорите, что не оценю вполне теперь ни одного из ваших писаний? Нет, оценю и оценяю — и очень — все ваши работы научной критики и философии и жду еще многого для себя и для других просветительного в этой области. Поездка5 мне скорее не нравится — именно тем, чем она нравится гр. Алекс[андре] Андревне (не Алексевне) Т[олстой]. И утверждение о том, что повторение десятки раз сряду одних и тех же слов может быть не отвратительно по своему безумно и кощунственно механическому отношению к богу, мне очень противно. Противно, п[отому] ч[то] вредно. Надо нам, старикам, глядя уже туда, помогать людям распутываться, а не запутываться. — Ну, простите ради Христа. Ошибаюсь ли, нет ли, но перед богом считаю своей обязанностью сказать вам это. Мне всегда душевно больно, когда я вижу в вас эти черты умышленного принижения своего духовного я во имя чего-то такого мелкого, ничтожного, как привычка, семья, народ, церковь. Я знаю, что вы можете повторить: семья! народ! церковь!6 ничтожное; но от этого отношение вашего духовного, божеского я к этим названиям игрушек человеческих не станет другим. Нельзя итти назад. У меня есть очень умный знакомый Орлов,7 к[оторый]93 94 говорит: я верю, как мужик, в Христа, бога и во всё. Но ведь это нельзя. Если он верит, как мужик, в Христа, то этим самым он говорит, что верит совсем не так, как мужик. Мужик верит так, как верили и верят величайшие мудрецы, до к[оторых] он может подняться, отцы и святители, т. е. верит в самое высшее, что еле-еле может понять. И прекрасно делает. И так надо делать и нам, чтобы у нас была вера, к[оторая] бы выдержала в смертный час, quand il faudra parler français, как говорит Montaigne.8 Да и как же нам верить в символ веры и его догматы, когда мы его со всех сторон видим и знаем до подробностей, как он сделан и как сделаны все его догматы. Мужик может, а мы не можем. И если брать уроки у народа, то не в том, чтобы верить в то, во что он верит, а в том, чтобы уметь избирать предмет своей веры так высоко, как только можно, — покуда хватает духовный взор. Опять простите. И не спорьте, хотя бы я был не прав; а в ответ напишите мне о моих слабостях, те, к[оторые] вы видите, а я не вижу, да поядовитей, потемирязевскее,9 и к[оторых] вы не можете не видеть.
А то на что бы и дружба.
Я без шуток прошу об этом.
Целую вас.
Л. Толстой.
Прочел и Роков[ой] Вопр[ос],10 и Перелом,11 и письма.12 Понравилось мне очень характеристика нигилизма. Очень верно и ясно. —
Рок[овой] же В[опрос] и Пер[елом], как и всё славянофильское, — простите, простите — ужасно молодо. Ну что, как вам на смертном одре напомнят Рок[овой] воп[рос] и всё славяноф[ильство], как вы презрительно и грустно улыбнетесь. — Я как будто нарочно раздразниваю вас, чтобы вы мне сказали, чтò вы в самые желчные минуты думаете о моих недостатках. Ведь мне это нужно. Радуюсь, что вы обещаетесь к нам приехать. Заключение спора о Дарвинизме13 мне понравилось.
Впервые опубликовано в ПС, 12, стр. 402—403. Датируется на основании пометы Страхова.
Николай Николаевич Страхов (1828—1896) — литературный критик и философ-идеалист, был в дружеских отношениях с Толстым. См. т. 62.
Ответ на письмо Страхова от 24 апреля 1890 г. из Петербурга. См. ПС, стр. 399—401.94
95 1 Второе издание книги H. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», книжка вторая, СПб. 1890.
2 «Воздушные явления» — вторая статья из отдела «Ряд статей о русской литературе».
3 По сохранившемуся в яснополянской библиотеке Толстого экземпляру этой книги Страхова можно видеть, что Толстой прочел после статьи «Воздушные явления» только статью «Герцен о Париже и старой Польше» (стр. 209—217).
4 В письме от 24 апреля Страхов просил Толстого прочесть предисловие ко второму изданию книги «Борьба с Западом».
5 Вместе с письмом к С. А. Толстой от 22 января 1890 г. Страхов прислал для Толстого свою статью «Воспоминание о поездке на Афон» — отдельный оттиск из журнала «Русский вестник» 1889,10, где статья была впервые напечатана на стр. 120—144.
6 Слово: церковь было выпущено в указанной публикации письма по цензурным соображениям.
7 Владимир Федорович Орлов (1843—1898), учитель. См. т. 63, стр. 82.
8 Michel de Montaigne (Мишель де Монтэнь, 1533—1592), французский философ и писатель-гуманист, автор сочинения «Essais» («Опыты»). В восемнадцатой главе тома I Монтэнь говорит: «À ce dernier rôle de la mort et de nous il n’y a plus que feindre, il faut parler français» («B этой последней, предсмертной роли нельзя более притворяться, надо говорить по-французски»). Слова эти отчеркнуты Толстым в сохранившемся в яснополянской библиотеке экземпляре книги: Montaigne, «Essais», Edition complète en quatre volumes. G. Charpentier et C-ie éditeurs, Paris. Page 84 (Монтэнь, «Опыты». Полное издание в четырех томах Г. Шарпантье и Ко. Париж, стр. 84). Богослужение католической церкви совершается на латинском языке, и словами о том, что перед смертью надо говорить по-французски, Монтэнь выражает уверенность, что в эти минуты недопустима никакая искусственность в поведении человека.
9 Климент Аркадьевич Тимирязев (1843—1920), великий русский ученый, ботаник, член Академии наук; продолжатель учения Дарвина и популяризатор его; основоположник современного учения о фотосинтезе. Приветствовал Великую Октябрьскую революцию 1917 г. и вступил в ряды членов Российской коммунистической партии большевиков. Тимирязев вел полемику со Страховым в 1887—1889 гг. по поводу книги
Н. Я. Данилевского «Дарвинизм».
10 «Роковой вопрос» — отдел во втором издании указанной книги Страхова (названный по заглавию первой входящей в него статьи — о польском восстании), стр. 111—146.
11 Первая статья в отделе «Ряд статей о русской литературе», стр. 147—175.
12 В той же книге Страхова напечатаны «Письма о нигилизме», стр. 110.
13 Статья «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского», стр. 542—567.
Ответ Страхова от 21 мая опубликован в ПС, стр. 403—406.
82. В. Г. Черткову от 20 мая 1890 г.
83. П. И. Бирюкову.
1890 г. Мая 21—22. Я. П.
Хоть несколько слов напишу вам, милый друг Поша, чтобы вы знали про меня настоящее. Был болен, три припадка желтухи, очень ослабел. Теперь, кажется, лучше, но душевно, слава богу, очень хорошо и было и есть. Пишите поподробнее про себя, про свое душевное состояние. Мы все живем и растем, и что вы мне писали о том, что чувствуете совершающийся не переворот, а ступень — я так понял — меня интересует, и п[отому] ч[то] люблю вас, и п[отому] ч[то] это общий всем нам процесс. Процесс этот с старостью не кончается.
1Чем заняты? Какая доля физич[еской], какая умственной работы? Каковы отношения с людьми? Что И[ван] Дмитриевич]?2 Целую его.
3У меня б[ыл] во время болезни Хилков. Я сошелся с ним еще ближе. Были Дунаев, Золотарев Василий, Рахманов, Пастухов. Знаете ли вы его? Из Академ[ии] Худож[еств]. Файнерман поехал к Алехину.4 Митроф[ан] Алех[ин] приглашает в свою. У него мало народа.5 Буткевич Ан[атолий] остался в Глодоссах. Я не знаю, что вы знаете с И[ваном] Д[митриевичем], чего нет. Да все эти передвижения, не могу ими интересоваться. Движение же духовное, как весною. Не успеешь заметить один распустивш[ийся] цвет[ок], как зацветает другой, а тот завязывается. И это не мечта, а самая реальная реальность.
Целую вас.
Л. Т.
Впервые напечатано (не вполне точно) в Б, III, стр. 147. Дата определяется следующими данными: письмо написано не ранее 21 мая, так как в этот день, судя по Дневнику Толстого, из Ясной Поляны уехал Дунаев, о котором Толстой пишет Бирюкову, что он «был» у него, и не позднее 22 мая, когда к Толстому приехал М. Н. Чистяков (см. прим. 3 к письму № 87), не отмеченный в числе посетителей в настоящем письме. Карандашную дату Бирюкова на автографе «15 м. 1890», сделанную в позднейшие годы, приходится считать ошибочной.
Письма Бирюкова к Толстому за март и апрель не сохранились.96
2 И. Д. Ругин.
3 Абзац редактора.
4 В середине мая 1890 г. Файнерман переехал с семьей из Херсонской губ. в смоленскую общину Шевелево.
5 Община «Байрачная» в 18 километрах от Харькова при хуторе Байрак.
* 84. В. П. Золотареву.
1890 г. Мая 21—22. Я. П.
Спасибо вам за оба ваши письма, милый друг Вас[илий] П[етрович], и за статью. Вчера ее вслух прочел Дунаев и так же, как другие, одобрил. Только смотрите, подавляйте тщеславие писательское, если будете подниматься. А радостно, что имеете способность выражать мысли, и старайтесь выражать их (учитесь, практикуйтесь) как можно яснее и короче. Это всем нужно и важно.
Ваше столкновение с родственником мне очень понравилось. Я не только верю, но знаю несомненно, что нет того человека, которого не победила бы кротость и смирение Христовы, если только мы сумели от души последовать им не перед людьми, а перед богом.
Я после вас поехал к брату и там заболел, и было поправился, и опять заболел, — всё тою же желтухой. Теперь здоровье лучше, но духовное состояние, слава богу, было неизменно хорошо и во время болезни. Был у меня после вас Хилков, он рассказывал про Алехина, который был у него. Община Глодосская расстроилась, но люди, слава богу, растут. Помоги вам бог жить по его воле там, где вы живете, с вашим отцом.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата определяется сопоставлением слов письма о чтении статьи Золотарева Дунаевым и записей в Дневнике Толстого от 20 и 21 мая о пребывании в эти дни в Ясной Поляне Дунаева, уехавшего 21 мая.
Василий Петрович Золотарев (р. 1866) — сын черниговского купца-старообрядца Петра Ивановича Золотарева; участник смоленской общины Шевелево. В то время, по просьбе старика отца, вернулся к нему, на родину.
Ответ на письма Золотарева от 6 и 15 мая 1890 г. В первом из них Золотарев описывал свое столкновение с богатым купцом, его родственником, «требовавшим» от него поклонения иконам. Во втором сообщал о посылке им Толстому рукописи своей статьи о «Крейцеровой сонате» (напечатана она не была).
85. В. Г. Черткову от 23 мая 1890 г.
86. Ф. Б. Гецу.
1890 г. Мая 25—26. Я. П.
Г-ну Файвелю Гецу.
Я прочел тогда же все те книги, которые вы оставили мне, и прочел теперь ваше письмо.
Во-первых, вы приписываете моему (да и всякому) слову значение, которого оно не имеет и сотой доли; во 2-х, вы невольно переносите воображением в меня всю ту страстность желания улучшения материального положения евреев и возмущения за переносимые ими гонения, которые сами испытываете.
Я жалею о стеснениях, к[отор]ым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми и жестокими, но и безумными, но предмет этот не занимает исключительно или предпочтительно перед другими моих чувств и мыслей. Есть много предметов, более волнующих меня, чем этот, и потому я бы не мог ничего написать об этом предмете такого, что бы тронуло людей.
Думаю я об еврейском вопросе то, в чем еще больше подтвердило меня чтение ваших статей об еврейской этике, что нравственное учение евреев и практика их жизни стоит без сравнения выше нравственного учения и практики жизни нашего quasi-христианского общества, признающего из христианского учения только выдуманные богословами теории покаяния и искупления, освобождающие их от всяких нравственных обязанностей, и что поэтому еврейство, держащееся нравственных основ, кот[орые] оно исповедует, во всем, что составляет цели стремлений нашего общества, берет верх над quasi-христианскими людьми, не имеющими никаких нравственных основ, и что от этого происходят зависть, ненависть и гонения.1
Поэтому я думаю тоже, что гонения эти никак не прекратятся, как в Америке не прекратятся гонения на лучших, более дешевых и трудолюбивых работников, чем американцы — китайцев. Американцы очень хорошо знают, что, изгоняя китайцев, они отступают от основных принципов равенства и свободы, кот[орые]98 99 исповедуют; но дело касается их шкуры, и они топчут под ноги принципы, исповедуемые ими на словах. Точно так же у нас, с тою разницей, что у нас даже и не профессируют принципов равенства и свободы, и потому и под ноги топтать нечего.
Евреи в умении достигать того, что составляет цель стремления большинства, несомненно превосходят квази-христиан, и потому, насколько есть возможность, квази-христиане всегда будут в этом препятствовать. Так и делают, и будут делать, и перестанут только тогда, когда усвоят истинные христианские основы жизни, оставляющие далеко за собой архаические, отжитые еврейские основы нравственности, — те самые, во имя которых и происходят теперешние гонения, как и сказано, что нищие города твоего имеют первенство перед нищими чужого города,2 и если кто-нибудь готов убить тебя, то предупреди и убей его3 и т. п.
Очень, очень жалею, что моя болезнь сделала вам столько хлопот и лишила меня случая познакомиться с вами. Пожалуйста, не сердитесь на меня, если содержание моего письма не ответит вашим ожиданиям, и постарайтесь перенестись в меня, чтобы увидать, что я и не могу иначе относиться к этому вопросу.
Пожалуйста, напишите мне и скажите, что делать с теми книгами, которые вы оставили у меня. —
Я всё еще слаб и нездоров, но если бы вы нашли нужным видеться, то я могу принять вас. Полагаю, однако, что свидание наше не изменит отношения моего к занимающему вас вопросу.
Еще раз, прося вас вызвать в себе добрые ко мне чувства, остаюсь с уважением и желанием вам успокоения.
Л. Толстой.
Впервые полностью опубликовано с датой «20 мая 1890 г.» в журнале «Летопись» 1916, 3, стр. 219—220. Датируется на основании записей в Дневнике Толстого 25 и 26 мая (см. т. 51, стр. 45 и 46).
Файвель-Меер Бенцелович Гец (р. 1853) — публицист и педагог; корреспондент многих русских, немецких и венгерских газет и журналов. Между 3 и 10 мая 1890 г. Гец приезжал в Ясную Поляну, не застав Толстого, Гец оставил ему книги, по еврейскому вопросу и уехал в Москву, дожидаясь извещения о возвращении Толстого из Пирогова. 19 мая он получил телеграмму от Л. Л. Толстого о том, что Лев Николаевич ввиду болезни не может его принять. После этого он обратился к Толстому с письмом от 20 мая.99
100 1 В следующем письме к Гецу (№ 103, от 30 июня 1900 г.) эту точку зрения Толстой признал ошибочной (см. стр. 118—119).
2-3 Выдержки из талмуда.
* 87. И. И. Горбунову-Посадову.
1890 г. Мая 27. Я. П.
Хоть несколько слов напишу вам в ответ. Очень радуюсь тому, что вы переехали, и с братом1 и его семейством. Теперь только бы Ч[ертковы] выбрались. — Я был нездоров, теперь поправляюсь медленно, но кроме самого хорошего и радостного, ничего не испытывал во время болезни и теперь не испытываю. Ге старший заехал проездом в П[етер]б[ур]г о своей картине и теперь здесь.2 Был еще Хилков, Дунаев, Матв[ей] Николаевич].3 Нынче приехал Попов. Постоянно в радостной атмо[с]ф[е]ре.
Л. Т.
На обороте: Россоша, Воронежской губернии.
Павлу Петровичу Алексееву для передачи И. И. Горбунову.
Дата определяется почтовым штемпелем отправления: «Тула. 28 мая 1890» и записью в Дневнике Толстого 27 мая о приезде в этот день Е. И. Попова (см. т. 51, стр. 46).
Ответ на письмо Горбунова-Посадова от 12 мая 1890 г. с хутора Черткова Ржевск, Воронежской губ.
1 Николай Иванович Горбунов, в начале 1900-х гг. был артистом Малого театра в Москве.
2 Художник Н. Н. Ге пробыл в Ясной Поляне с 26 по 28 мая проездом со своего полтавского хутора в Петербург для переговоров о посылке своей картины «Что есть истина?» с Н. Д. Ильиным на выставку в Америку. См. письма №№ 123, 128 и 148.
3 Матвей Николаевич Чистяков (1854—1920), в то время управлявший имением Черткова Ржевск. См. о нем в т. 66.
88. В. И. Алексееву.
1890 г. Мая 18—30. Я. П.
Спасибо, дорогой друг Василий Иваныч, что пишете мне, выкладывая свою душу. Может быть, вам легче, а я рад хоть воображением и мыслью помучаться с вами.100
101 1Борьба с чувственностью это борьба хорошая, это сама жизнь. И для нас грешников обязательная. Надо учиться только вести ее. Я сам вел ее и вокруг себя вижу людей, ведущих ее. Для меня было, кроме многих других, два средства: одно, внутреннее, состоящее в том, чтобы переводить жизнь свою из области интересов мирских в область служения богу, без соображений о своих выгодах, вкусах и суждении людском. В той мере, в к[оторой] удается это, утишается и соблазн: всякая женщина становится прежде всего материалом служения богу. Мне это помогало. Другое, внешнее средство — это уметь предвидеть козни дьявола воображения и прихлопывать проявления его в самом начале, ожидая встретить эти козни в самых разнообразных видах. —
2Об отношении вашем к Л[изавете] А[лександровне]3 скажу, что, по-моему, оно не достаточно добро и самоотреченно самоуниженно. Слова ее ничего не значат. Чем решительнее и увереннее ее тон, тем она жалчее. Сделать для нее надо всё, чего она хочет, хотя бы это и нарушило вашу жизнь. Целомудрие же с нею соблюдать тоже нужно.
Я думаю, что люди, впавшие в брак вместе, вместе и должны освобождаться от этого соблазна, помогая в этом друг другу. Этому же помогают и дети, чем они больше. — И как совесть обязывает меня лечить человека, к[оторого] я ранил или вовлек в болезнь, так и здесь супруги друг друга расслабили, им и надо помогать друг другу и нельзя смотреть — помимо уж детей — на такую связь, как будто ее никогда не было. —
4А еще, голубчик, постарайтесь не осуждать ее, а себя, себя, себя. Ищите в себе своих грехов к ней, как собака блох. И чем больше найдете, тем легче вам будет.
Я был болен — печенью — и теперь не справился. Но истинно говорю, мне очень хорошо. Матерьяльно уход за мной идеальный, а духовно болезнь помогает, подгоняет, счищает много лишнего.
Поцелуйте от меня Колю.5 Поклонитесь от меня Еропкину6 и скажите ему, что я люблю его и желаю ему всего хорошего.
Л. Толстой.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 314—315. Написано не ранее 15 мая, так как только с этого дня Толстой начал медленно поправляться после болезни, и не позднее 30 мая, так как на это письмо В. И. Алексеев ответил из Пензы 1 июня 1890 г.101
102 Ответ на письмо В. И. Алексеева от 12 мая, в котором Алексеев писал о своих отношениях с женой и предстоящем разводе.
1, 2 Абзац редактора.
3 Елизавета Александровна Маликова, первая жена В. И. Алексеева.
4 Абзац редактора.
5 Сын В. И. Алексеева, Николай Васильевич Алексеев (р. 1878).
6 Виктор Васильевич Еропкин (1848—1909), один из основателей (в 1886 г.) интеллигентской земледельческой общины «Криница» на черноморском побережье Кавказа. В 1889 г. он поступил директором на писчебумажную фабрику Сергеевых близ Пензы, куда в 1890 г. приехал и В. И. Алексеев, приглашенный для обучения его племянников.
* 89. П. И. Бирюкову. Черновое.
1890 г. Июня 2? Я. П.
Петерб[ург]. Черткову. Бирюкову.
Жена с 4 по 6 в Москве. Хорошо бы свидеться там. Пишу.
Л. Т.
Печатается по копии рукой А. Е. Грузинского из составленной им картотеки писем разных лиц к Толстому. Судя по надписи А. Е. Грузинского, черновой текст этой телеграммы был набросан Толстым на недатированном письме (или на конверте письма) некоего Н. А. Вечеслова к Толстому от 1890 г. из Раненбурга. Дата телеграммы определяется содержанием письма Толстого к Бирюкову № 90.
* 90. П. И. Бирюкову.
1890 г. Июня 2. Я. П.
Всё это очень хорошо. Так и надо сделать. Вы поплатились за грехи наши всеобщие — взгляд на брак и приготовления к нему, забегающие вперед и вперед неправильно обставляющие сущность его. — Я понимаю теперешнее предложение ваше и Маши так: между вами и Машей не существует ничего внешнего, особенного. Вы не ручаетесь никому, ни себе в том, что вы соединитесь браком, и никому не обещаетесь, что не соединитесь браком. То, что вы любите друг друга, то вы в этом не только не раскаиваетесь, но очень рады этому и желаете только того, чтобы это усиливалось и продолжалось. Так ли я понимаю?102 103 Маша понимает так совершенно независимо от меня. Если нет, то пусть она оговорит в этом же письме.
Теперь о том, что я сделал. Письма вашего я не показал жене. Да и вы виноваты в этом, там есть фраза: если другие не понимают и т. д. Эта фраза может раздражить, хотя я знаю, что она не относится к С[офье] А[ндреевне]. Кроме того, не показывал я письма еще и п[отому], ч[то] жена не совсем здорова и в нервном расположении духа. — Не знаю, покажу ли и скажу ли ей или нет; но вы во всяком случае сделайте вот что: она завтра, воскресенье, 3-го едет в Москву и пробудет там дня два. Если вы освободитесь из Петерб[урга], то пригоните свой приезд в Москву к этому времени и объяснитесь с ней. В Москве на нейтральной почве это самое удобное. Если же вам не удастся это, то я напишу вам. Ну, пока прощайте. Спасибо Чертк[ову] за письмо, получил. Целую вас и их.
Л. Т.
Дата определяется сопоставлением записи в Дневнике Толстого со словами настоящего письма: «она [Софья Андреевна] завтра, воскресенье, 3-го едет в Москву». В Дневнике Толстого 1 июня читаем: «Письма приятные от Черткова, Золотарева и Бирюкова. Маша предлагает вернуться к старому, и он пишет об этом. Хочет приехать. И я боюсь, как бы не испортить им» (т. 51, стр. 47). На подлиннике письма карандашом дата рукой П. И. Бирюкова: «18 мая 1890 г.». Помету эту, сделанную Бирюковым в позднейшие годы, приходится считать ошибочной.
Ответ на недатированное письмо Бирюкова (с позднейшей карандашной пометой адресата: «Март 1890». См. письмо № 92.
91. С. А. Толстой от 4 июня 1890 г.
* 92. П. И. Бирюкову.
1890 г. Июня 11. Я. П.
Получил я ваши письма, милый друг, и, прочтя их, одобрил сердцем и письмо ко мне, и к С[офье] А[ндреевне], но письмо к Маше1 не одобрил, и когда пришла жена, передал ей письмо к ней, но не показал письма к Маше, желая посоветоваться с Машей прежде, как лучше это сделать, и чувствуя, что это письмо раздражит ее. Не одобрил я письма вашего к Маше103 104 за то, во 1-х, что, решив то, чтобы откинуть те внешние формы исключительного сближения, к[оторые] вы оба усвоили, вы сразу в письме продолжаете не только эти формы, но усиливаете их; во 2-х, то, что в письме этом есть некоторый задор — гордости, кот[орый] неприятно поразил меня. Я знаю и понимаю, что этот тон смелый, мужественный вызван именно теми несправедливыми нападками, кот[орым] вы подвергались, но тон, неприятно подействовавший на меня, любящего вас, и потому тем более неприятно долженствовавший подействовать на С[офью] А[ндреевну]. — Так и вышло: Таня рассказала ей места из вашего письма, те самые, кот[орые] неприятно должны были подействовать на нее — то, что вы говорите о том, что Маше всегда будет место подле вас, и С[офья] А[ндреевна] вышла из себя, и началось раздражение, смысл кот[орого], после того, как оно затихло, состоит в том, что она больше чем когда-нибудь противится и будет противиться этому браку, пока жива, и напишет вам об этом. Кончилось тем, что она, узнав то, что вы мне пишете о том, что в случае неответа вы и так не приедете, решила не писать. Маша же сказала, что она напишет, что она и намерена сделать и что я теперь делаю.
Как смотрю я на всё это? Помоги мне бог сказать как бы перед ним одним.
Я смотрю и не могу смотреть иначе (не можете смотреть иначе и вы, и Маша) на брак, как на падение. В романах пишут, и мы привыкли к тому, что бороться с препятствиями, мешающими браку, есть доблесть. Для христианина препятствие вступлению в брак — падению, есть желательное явление — он должен сам желать воздвигать их. «Но стремление непреодолимо — мешает жить, воздержание от брака делает жизнь еще менее христианской, доброй, чем она бы была при браке». Так это часто бывает, но так ли это в вашем случае? Это вы знаете и должны решить перед богом, только перед одним богом, имея в виду не себя одного, но и ее. — Так ли это по отношению ее? Потребность вступить в брак нарушает ли для нее возможность доброй христианской жизни и движение вперед? Сколько я вижу и понимаю ее — нет. Если бы я видел в ней апатию, рассеянность, поворот назад к мирской жизни, даже поползновение к этому, я бы сказал: да, ей лучше брак. Но я не вижу в ней этого. Она медленно, но без отклонений идет по одному104 105 и тому же пути, по к[оторому] идете и вы. И идете оба, думая только о нем, об этом пути. Так я думаю, но это я, и мне 7-й десяток, и я могу, не замечая того, руководиться эгоизмом; и я не знаю всего, что происходит в ее душе. Она одна знает, хотя и не сумеет, вероятно, высказать, но говорите оба, главное, как можно более забывая себя и мнения людей, а помня одного бога.
Дата определяется доставлением содержания письма с записью в Дневнике Толстого 8 июня: «Нынче, по случаю письма Бирюкова, привезенного Ге, б[ыл] неприятный разговор с С[оней]» (т. 51, стр. 47). В Дневнике 12 июня Толстой отметил, что написал накануне письмо Бирюкову. Карандашную помету Бирюкова на автографе «20 мая 1890», сделанную в позднейшие годы, приходится считать ошибочной.
1 Эти три письма неизвестны.
* 93. И. И. Горбунову-Посадову.
1890 г. Июня 11. Я. П.
Спасибо вам, милый друг, за ваши чувства; но, простите меня, письма самые, и к Маше,1 и ко мне, произвели на меня тяжелое впечатление. Совестно, неловко. Очевидно, вы грешите, отдаваясь увлечению своими хорошими чувствами. А мне это тяжело. Но вы простите меня, если я вам говорю это. Если бы я не любил вас очень, я бы не сказал. А я знаю, что в ваших словах, несмотря на то, что они меня конфузят, производят неловкость, нет тени неискренности. Лучше сказать. —
Вот то, что вы пишете о себе, о своем положении с братом в Посреднике и о том, как вы относитесь к этому, вот это интересно мне очень и трогает меня. И мытарь ушел оправданным, оправданным п[отому], ч[то] он чувствовал свои грехи; а чувствовал он их только перед богом. Ушел же оправданным он не оттого, что он побил себя в грудь и говорил: Б[оже], ми[лостив] б[уди] м[не] г[решному],2 а п[отому], ч[то], вероятно сознавая свои вины, не хватал за горло должника, как тот немилосердный человек, к[оторого] простил хозяин.2 И потому оправдать ничем нельзя, ни исповедью, ни разговором вашего греха, и говорить вам про этот грех ни с кем не надо, как только с богом. И как только перестанешь о своих грехах говорить105 106 с людьми и станешь говорить о них с одним богом, так сейчас делается страшная, мгновенная точно перемена декорации: те грехи, что казались большими, кажутся малыми, оказывается, что бог (и это чаще всего бывает) гораздо снисходительнее людей, а те, к[оторые] казались малыми или даже вовсе не грехами, вырастают в большие. Не надо говорить про свой грех ни с кем, как перед богом, надо не баловать этим сознанием грехов.
Спасибо за известие о Ч[ертковых]. Я нынче пишу им.3 Повести ваши4 прочел: Степаненко порядочно, хотя писано с точки зрения господской, но сердечно.5 Вдовин холодно, выдумано.6
Что, нет ли продолжения Баллу?7 Молокане спрашивают. Очень радуюсь за вашего брата и его семью. Передайте ему мой привет. Целую вас. Здоровье мое совсем хорошо.
Л. Толстой.
Целую милого Матв[ея] Ни[колаевича].8 Спенглерам9 мой привет. Напишите про них. Как они живут? Что делают?
Дата определяется записью в Дневнике Толстого 12 июня: «Вчера 11. Я писал письма.... Черт[кову], Горбунову» (т. 51, стр. 48).
Ответ на письмо И. И. Горбунова-Посадова от 5 июня 1890 г., в котором Горбунов писал о своем отношении к Толстому и, кроме того, сообщал, что он принужден, за неимением других подходящих лиц, взять на себя дело редакции «Посредника», которое к тому же давало ему средства для поддержания семьи его брата.
1 Оно неизвестно.
2 Примеры Толстого взяты из евангельских притч.
3 См. письмо от11 июня 1890 г. в т. 87.
4 Повести, присланные Горбуновым Толстому для отзыва и предназначавшиеся к изданию в «Посреднике».
5 Вероятно, какая-либо повесть H. Н. Степаненко, автора сборника: «Хата и другие рассказы», Ромны 1893.
6 Иван Матвеевич Вдовин, писатель из крестьян, служивший волостным писарем в Вухоловской волости Волоколамского уезда Московской губ. Автор рассказов и стихотворений из народного быта. Что именно из них читал Толстой, не установлено. О Вдовине см. Иван Белоусов, «Литературная Москва», изд. Московского товарищества писателей, М. 1929, стр. 6—7.
7 Продолжение перевода книги Адина Баллу: «Christian non-resistance» («Христианское непротивление»). В. Г. Чертков поручил перевод этой книги А. П. Барыковой. О судьбе перевода Баллу запрашивал Толстого в письме от 21 мая молоканин Ф. А. Желтов.106
9 Федор Эдуардович Спенглер (1860—1908), сельский учитель в Острогожском уезде Воронежской губ., и его жена Ольга Николаевна, рожд. Озмидова. См. т. 63, стр. 362.
94. П. М. Третьякову.
1890 г. Июня 11. Я. П.
Павел Михайлович!
Я вчера увидал картину Ге «Что есть истина?». И теперь пишу в Америку моим друзьям там письма об этой картине.1 Ее везут туда на-днях. Я ее видел, и она мне более не нужна. Те русские, кот[орые] видели ее, тоже видели, и она им больше не нужна, те, которые не увидят ее, если она, по всем вероятиям, останется за границей, не увидят ее, как не увидали бы ее американцы, если бы она осталась в России. Я ни в каком отношении не признаю патриотизма, тем более в деле просвещения. Где бы ни разносился свет, всё равно, только бы разносился. И потому я пишу вам об этой картине не потому, что для себя или для России желаю, чтобы картина осталась в ней, а пишу только для вас.
Выйдет поразительная вещь: вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства — живописи и собрали подряд всё для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не ее.
Для меня это просто непостижимо. Простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите ее, чтобы не погубить всё свое многолетнее дело. Если же вы думаете, что я ошибаюсь, считая эту картину эпохой в христианском, т. е. в нашем истинном искусстве, то, пожалуйста, объясните мне мою ошибку.
Но, пожалуйста, не сердитесь на меня и верьте, что письмо это продиктовано мне любовью и уважением к вам. Про содержание моего письма вам никто не знает.
Любящий вас
Л. Толстой.107
108 Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 253—254. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 12 июня: «Вчера 11 я писал.... Третьяк[ову]» (см. т. 51).
Павел Михайлович Третьяков (1832—1898) — богатый московский купец, основатель, вместе со своим братом Сергеем Михаиловичем (1834—1892) художественной галлереи (ныне Государственная Третьяковская галлерея).
1 Толстой имеет в виду продиктованные им 11 июня Т. Л. Толстой и отправленные от ее имени письма: И. Гапгуд, В. Гаррисону, Н. Доулу и В. Ньютону. См. Список писем, написанных по поручению Толстого, №№ 58—61.
95. П. М. Третьякову. Черновое.
1890 г. Июня 11 Я. П.
Писал вам спеша и боюсь, что не ясно. Не переписывая письма, прибавлю только для ясности еще следующее: прежде верили в божественность Христа и так и писали его, и была католич[еская], христианская живопись. Потом перестали верить в Христа, как в бога, и стали писать Христа, как историческое лицо; но это не удавалось, и это воззрение на Христа не дало больших художеств[енных] произведений, во 1-х, п[отому], ч[то] это вызывало спор, во 2-х, п[отому], ч[то] Хр[истос], как историческое лицо, никак не мог быть так интересен, как Людов[ик] XIV, Кромвель, Бонапарт и т. п. И от этого последнее время все картины Христа были неудачны: не было найдено отношения к нему.
Картина Ге есть выражение нового отношения к Христу, состоящего в том, что изображается столкновение двух миров — языческого с христианским и выражается не как историческое яв[ление]
Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 254—255. Датируется содержанием: написано в дополнение к письму № 94.
П. М. Третьяков ответил на письма Толстого 18 июня 1890 г. Письмо опубликовано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 255—256. См. далее, письмо № 109.
Картина Ге «Что есть истина?» была приобретена Третьяковым и ныне находится в Государственной Третьяковской галлерее.
96. В. Г. Черткову от 11 июня 1890 г.
97. М. М. Лисицыну.
1890 г. Июня 18. Я. П.
18 июнь.
Хотя в учреждении всякого общества есть нечто искусственное и потому не вполне правдивое, общества трезвости полезны и нужны, п[отому] ч[то] борются с поступками, кажущимися безразличными, не кажущимися прямо противными нравственности, но влекущими за собой безнравственные поступки, вследствие одурения. Не то с половой распущенностью, — она сама по себе безнравственна, и потому для борьбы с ней едва ли нужно общество. Тот, кто воздержится от этого порока ради общества, а не для бога, едва ли поступит хорошо. Так мне кажется. И я не стал бы учреждать общество; но сочувствовал бы основанию такого общества. Люди находятся на самых разных ступенях нравственного миросозерцания и могут быть такие, к[оторым] это нужно.
Вопросы ваши, после прочтения послесловия, огорчили меня. Эпизод на браке в Кане1 ничего другого не показывает, как только то, что в евангелиях есть места, или внесенные очень тупыми и не понимавшими смысла учения людьми, или такие, смысл кот[орых] потерян. Из того, что Хр[истос] б[ыл] на сватьбе (т. е. на гуляньи и попойке), скорее можно вывести (особенно из слов распорядителя: когда напьются, то подают плохое вино), что он одобрял пьянство, чем то, что он одобрял брак, о кот[ором] не сказано ни одного слова. По-гречески: γὰμοζ употребляется как брак и как пир (в басне Езопа: собака и волк),2 как у французов, noce, faire la noce, nocer значит кутить. Так что ссылки церковников на это место в пользу брака лучше всего показывают полное отсутствие в учении Христа учреждения или одобрения брака. —
Слова: «Да прилепится к жене и будет....» — суть слова ветхого завета, к[оторые] Хр[истос] повторяет, чтобы показать им, что женатому нельзя разводиться. Он говорит, что женатому надо жить честно и целомудренно с женой, а не женатому вовсе не жениться. Это всё сказано, мне помнится, в Послесловии, если у вас настоящий список.109
110 О том, как смотреть на стремление человека к полов[ому] общению для продолжения рода, тоже сказано: Цель жизни человека есть служение богу. Служению богу никак не может содействовать половое общение. Оно всегда препятствует ему, точно так же, как питание себя никак не содействует прямо служению богу. Но как голод может мешать и мешает служению богу, и человеку разумн[ее] поесть, утолить голод, чтобы спокойно служить богу, так точно и в половом общении, если человек чувствует, что он не может быть спокоен без этого, то лучше взять жену и слиться с ней (как и говорит Хр[истос]), но с тою разницей, что от пищи мы знаем, что невозможно совсем воздержаться (хотя чем больше, тем лучше), а от полового общения очень можно, в особенности тем, к[оторые] еще не испортили себя и понимают и верят, что девственность лучше брака, п[отому] ч[то] вне брака лучше можно служить богу.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано с искажениями в альманахе «Литературная мысль», II, Пгр. 1923, стр. 201—202. Год написания письма определяется почтовым штемпелем.
Михаил Михайлович Лисицын (1862—1913) — ветеринарный врач в Дерпте, автор нескольких повестей и рассказов, напечатанных под псевдонимом «М. Лаврецкий». См. т. 63, стр. 209—210.
Ответ на письмо Лисицина от 12 июня, в котором Лисицын писал о своем намерении организовать общество по борьбе «с страшным злом.... половых излишеств» по образцу «Согласия против пьянства» и спрашивал совета Толстого. Помимо этого он задавал ряд вопросов о браке и половых отношениях в связи с чтением «Крейцеровой сонаты».
1 Евангельский эпизод.
2 Эзоп (ок. VI в. до н. э.), греческий баснописец. Перевод басни «Собака и волк» помещен Толстым в его «Третьей русской книге для чтения», изд. 1-е, М. 1875, стр. 2, где слово γὰμοζ переведено как «свадьба».
* 98. В. И. Алексееву.
1890. Июня 30. Я. П.
Давно получил ваше письмо, милый друг, и тогда не ответил, и теперь пишу только несколько слов. Спасибо вам, что пишете мне о своем душевном состоянии, это значит, что вы любите меня и верите в мою любовь к вам. Я был в это время болен и110 111 теперь совсем поправился. И, верите ли, жалею. Больным я был много ближе к богу. Помните, житие есть монаха, кот[орый] умер, но не успел помириться с врагом. Его там пожалели, что за это нельзя его впустить в лучшее место рая, и оживили его, чтобы он исправил это дело. Вот он и ожил в гробу и рассказывал, как там в раю было хорошо, какое великолепие, прохлада, духи райские везде, и как вдруг его из этих райских мест (когда решено б[ыло] его оживить) повели на задний двор и на заднем дворе привели к вонючему гноищу, яме и велели лезть туда, и как ему было ужасно видеть, нюхать, прикоснуться, не то, что лезть. Но нечего делать, велели лезть. И он с отвращением влез. И, влезши, вдруг потерял отвращение и очнулся, и гноище и было его самое тело.1
Ну вот, нечто подобное испытываю. С[офья] А[ндреевна] выписала Нагима из Каралыка,2 и он делает кумыс, и я пью и здоров совсем. Живу почти один, а народу бездна — гости за гостями. Работаю немного.3 — Коля ваш в степи. А вы как? Не уехали ли тоже? Пишите обо всем.
Любящий вас Л. Т.
Маша и наши все поминают добром.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 30 июня (см. т. 51, стр. 56).
Ответ на письмо Алексеева от 1 июня 1890 г.
1 Легенда взята из сборника «Пролог» на 28 марта («Пролог», М. 1877, 2, март, стр. 68—69).
2 Нагим, башкир из деревни на реке Каралыке близ самарского имения Толстых.
3 В течение июня Толстой окончил статью «Для чего люди одурманиваются?», работал над «Отцом Сергием», «Воскресением», правил корректуры «Плодов просвещения», переделал рассказ «Чем люди живы» и 27 июня начал статью «Царство божие внутри вас».
99. Л. Ф. Анненковой.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогая Леонила Фоминична, и, по правде вам скажу, многое из него не совсем понял: не понял я, что вы во мне особенное нашли в сентябре, что вас так огорчило. Это мне очень интересно, ибо, вероятно, укажет мне невидимые мною мои грехи. Не понял я тоже, почему вы меня называете111 112 недобрым. Мне думается, что какой я есмь, то такой я уже давно и не стараюсь казаться другим. По отношению же вас всё такой же: как полюбил вас сначала, так и продолжаю любить. —
Вы спрашиваете о своих грехах и слабостях. И это правда, что в указании слабостей и грехов друг друга мы больше всего нуждаемся; и в этом прежде всего должна выражаться наша любовь. Ваша слабость, которую я заметил, это желание отделиться от людей грешных, мирских своей добродетелью и потому осуждение этих людей, к[оторое] выражается у вас сожалением к ним. Самое лучшее, самое желательное, идеал, это то, чтобы не только не находить человека дурным, т. е. хуже себя, не только не находить себя лучше других, не находить даже себя лучше, чем был прежде, не видеть в себе улучшения, а до такой степени быть занятым улучшением себя, чтобы не видеть его. Не пишите мне ничего про это свое свойство, про то, так ли, верно ли я сужу или нет, а в ответ на это пишите мне о моих недостатках, к[оторые] вам бросаются в глаза. —
Здоровье мое слишком хорошо. И как ни странно это сказать, мне лучше было больному.
Картина Ге лучше, чем я ожидал, — прекрасна.
Спасибо вам за сведения о суде штундистов.1 Это очень интересно. Знаете ли вы их записку о крещении и причащении. Пишите нам. Поклон вашей сестре2 и мужу.
Любящий вас Л. Толстой.
Вы спрашиваете: покоен ли я духом. Слава богу, не спокоен. Если вы спросите в том смысле, что нет ли у меня сомнений в пути, по кот[орому] хочу итти, нет ли у меня отчаяния или хоть недовольства на устройство и порядок мира, нет ли у меня страха перед смертью или жизнью? то прямо скажу, что нет, и в этом смысле спокоен; но неспокоен в том, что вижу ясно отклонение моих поступков от того пути, по кот[орому] хочу итти, и оттого неспокоен. —
Впервые опубликовано с датой «1890 г. июль» в ПТС, I, стр. 190—191, Дата определяется записью в Дневнике Толстого 1 июля (т. 51, стр. 56. и упоминанием этого письма под датой «30 июня» в Списке В. Г. Черткова.
Леонила Фоминична Анненкова (1844—1914) — с 1886 г. знакомая Толстого, жена курского помещика и юриста Константина Никаноровича Анненкова (1842—1910).112
113 Ответ на письмо Анненковой от 22—24 июня 1890 г., в котором она описывала свое впечатление от посещений Толстого в сентябре 1889 г, и 5—7 июня 1890 г. и задавала ряд вопросов.
1 О деле сектантов-штундистов Анненкова писала М. Л. Толстой. Это письмо неизвестно.
2 Аделаида Фоминична Бенкевич (ум. 1924, около 75 лет).
На письмо Толстого Анненкова отвечала письмом от 26 июля 1890 г.
100. Адину Баллу (Adin Ballou).
1890 г. Июня 30. Я. П.
Dear friend and brother, I seldom experienced such true and great pleasure as I experienced at the reading of your truly brotherly and Christian letter. I thank you very much for the books and tracts that you sent me.1 I received them safely and have read with great pleasure and profit some of them. The non-resistant catechism I have translated and will circulate it among our friends. It is remarkably well put in such a compacte, form the chief truths of our faith. What are your relations to the declaration of sentiments of the non-resistance society started by Garrison?2 Were you a member of it at the time? I quite agree with you that Christianity will never enter its promised land till the divine truth of the non-resistance principle shall be recognized, but not the nominal church will recognize it. I am fully convinced that the churches are and have always been the worst enemies of Christ’s work. They have always led humanity not in the way of Christ, but out of it. I think that all we can say and wish about church is to try to be a member of Christ’s church, but we never can define the church itself, its limits, and affirm, that we are members of the sole, true church.
With true brotherly love and highest respect, I remain your friend and brother
Leo Tolstoy.
Дорогой друг и брат, я редко испытывал такое истинное и большое удовольствие, как при чтении вашего истинно братского и христианского письма. Очень благодарю вас за книги и брошюры, которые вы мне прислали.1 Я получил их благополучно и некоторые из них прочел с большим удовольствием и пользой. Катехизис непротивляющихся я перевел и буду распространять его среди наших друзей. В нем замечательно хорошо изложены в такой сжатой форме главные истины нашей веры. Каково ваше113 114 отношение к декларации взглядов общества непротивления, основанного Гаррисоном?2 Состояли вы его членом в то время? Я совершенно согласен с вами, что христианство никогда не войдет в свою обетованную землю, пока божественная истина принципа непротивления не получит признания. Но признана она будет не так называемой церковью. Я совершенно убежден, что церкви всегда были и остались злейшими врагами дела Христа. Они всегда вели человечество не по пути Христа, а в сторону от него. Я думаю, что всё, что мы можем сказать и желать относительно церкви, это пытаться быть членом Христовой церкви; но мы никогда не можем определить самую церковь, ее границы и утверждать, что мы члены единой, истинной церкви.
С истинно братской любовью и полным уважением остаюсь вашим другом и братом.
Лев Толстой.
Печатается по копии рукой В. Г. Черткова. Ввиду того, что об этом письме нет упоминания в «Автобиографии Адина Баллу» и что оно не вошло ни в рукописную тетрадь Льюиса Вильсона, ни в опубликованную им в журнале «The Arena» переписку Толстого с Баллу, приходится вывести заключение, что подлинник не дошел до Баллу. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 1 июля (т. 51, стр. 56) и упоминанием этого письма под датой «30 июня» в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на письмо Баллу от 30 мая нов. ст. 1890 г., написанное в ответ на письмо Толстого от 21—24 февраля 1890 г. (см. № 26). Баллу благодарил Толстого за «разъяснение мысли относительно допущения компромисса на практике» и писал о своем нежелании «пререкаться относительно словесных разногласий».
1 Баллу прислал Толстому брошюру «Non-resistance catechism» («Катехизис непротивления»), Hopedale, Milford, и несколько других книг по вопросам религии. Катехизис был переведен гостившим у Толстого H. Н. Страховым. Толстой, исправляя этот перевод, задумал написать к нему предисловие (одновременно и к «Декларации Гаррисона»), положившее начало большому трактату «Царство божие внутри вас». См. т. 28.
2 Вильям-Ллойд Гаррисон (William Lloyd Garrison, 1805—1879), американский общественный деятель, выступавший за освобождение негров; сторонник учения о непротивлении злу насилием, основатель обществ и журнала «Non-resistant» («Непротивляющийся») в Бостоне.
101. П. И. Бирюкову.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Спасибо, милый друг, за письмо и за правду.
Мы вас также любим, вы в это верьте. — Жизнь и формы ее пускай будут впереди, а любовь, пускай будет неразлучна114 115 с нами. — Ваше письмо еще эгоистично тронуло меня. Мне здорово вспоминать, что я живу дурно и, под предлогом избегания вражды, подчиняюсь своим слабостям, похотям тела. Друг мой, любя меня, напишите мне, не смягчая, а в самой строгой форме, суждения о мне, осуждающие меня, не называя никого. Вы ведь много таких слышали. —
Как вы живете? Что Ив[ан] Дм[итриевич]?1 Я живу всё так же. Работаю в поле меньше, обуреваем гостями. И часто хочется умереть — грешен. Целую вас и Ив[ана] Дм[итриевича]. Поклон Варв[аре] Ва[сильевне].2
Л. Т.
Почти полностью опубликовано в Б, III, стр. 140. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 30 июня (т. 51, стр. 56).
Ответ на несохранившееся письмо П. И. Бирюкова к М. Л. Толстой, о котором 27 июня 1890 г. записано в Дневнике Толстого: «Письмо Поши к Маше — тон хороший. Пишет об Алехине и об осуждении меня. Это мне хорошо. Хорошо бы это вполне слышать» (т. 51, стр. 55).
1 И. Д. Ругин.
2 Варвара Васильевна Бирюкова (1831—1895), мать П. И. Бирюкова.
* 102. H. Н. Ге (сыну).
1890 г. Июня 30. Я. П.
Получил ваше письмо, милый друг, и очень был рад ему.
Я всё понял и заметил то, что вы (если пишу это, то пишу обдумав и с той мыслью, что, любя друг друга, мы обязаны говорить правду, ту, о которой прошу всех и вас для себя) многое объясните себе так (к чему мы все всегда склонны), чтобы то положение, в котором вы находитесь, представлялось тем самым, каким и должно быть.
Будьте в этом строги и внимательны к себе. Повторяю то, что я, кажется, писал вам и что для меня всё уясняет по отношению и экономического (участия в труде) положения каждого человека, и брачного, и всяких других, а именно:
Есть жизнь злая, мирская, и учение, оправдывающее эту жизнь. Есть жизнь в сознании нашем, жизнь святая, божеская, и учение, определяющее эту жизнь. Все люди живут жизнью мирскою, злою и среди ее. Но одни не знают, не видят, не веруют115 116 в святую, божескую жизнь, и исповедуют учение мирское, и не хотят изменить своей жизни; другие знают и верят в святую жизнь и в ее учение и ненавидят и жизнь, и учение мирское. Эти последние (я про них только и говорю) для спасения себя от мирского зла и причастия к святой жизни, делают самые разнообразно бесконечные дела, сообразно с их характерами, прошедшим и условиями, в которых их застает сознание мерзости мирской и блага святой жизни.
И вот эти-то дела, начиная от стояния на столбу и поселения отца Дамиена на острове с прокаженными,1 до общины Алехиных, и от семейной жизни удовлетворения потребности потухающей похоти, до борьбы аскетической [[10]], — все хороши, если имеют источником стремление от сатаны к богу. Цену им знает только бог, потому что обе стороны параллелограмма, длина их сторон, выражающая необходимость материальную, характер условий и стремления к богу, известны только самому и богу, что одно и то же.
Такого же положения, в котором всё будет хорошо, и легко, и просто, как вам кажется, — такого нет.
И тот, кто экономически весь живет чужими трудами, как вы, положим, жили в Твери и в Москве, и который соблазняется на женщин и мучается, и борется, и тот, который живет, как вы, или как Алехин, или как Чертков, и еще миллионы и миллионы разных положений — все равны. Неравенство только перед людьми.
Человек борется напряженно с своими страстями, с прошедшим, с средой и, измученный, говорит себе: вот теперь я кончу, вот положение, в которое я вступлю и отдохну. (Так вы думаете, что, живя, кормясь и плодясь, как животное, и оставаясь разумным, вы достигнете отдыха.) Но это обман чувств, которому не надо предаваться.
Бороться — это самая жизнь, она только и жизнь. Отдыха нет никакого. Идеал всегда впереди, и никогда я не спокоен, пока не то что не достигну, а не движусь к нему.
Хотя бы идеал безбрачия. Не насыщение физического чувства, успокоив на время похоть, удовлетворит меня, как накормление всех голодных вокруг меня не удовлетворит меня в экономическом отношении. Удовлетворит вас только ясное созерцание идеала во всей его высоте, такое же ясное созерцание своей слабости во всей отдаленности ее от идеала и стремление116 117 приблизиться к идеалу. Удовлетворит только это, а не поставление себя в такое положение, в котором я, прищурившись, могу не видать различия своего положения от требования идеала.
Печатается по машинописной копии с датой «4 июня 1890 г.» из AЧ. Отрывок напечатан в сборнике «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch 1901, стр. 28. Датируется записью в Дневнике Толстого 30 июня (см. т. 51, стр. 56).
Ответ на несохранившееся письмо H.H. Ге (сына). См. об этом письме запись в Дневнике Толстого 29 июня (т. 51, стр. 55).
1 Иосиф Дамиен де Вестер (1839—1889), бельгиец, миссионер, поселившийся в 1873 г. среди прокаженных на острове Молокаи (Гавайские острова) и сам заразившийся проказой.
103. Ф. Б. Гецу.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Благодарю вас за присылку книг,1 я прочту их.
Впрочем, в предпоследнем письме вашем,2 писанном из Ясенков, вы вполне ответили или скорее объяснили мне мою ошибку о степени высоты требований еврейской этики, указав на различие того, что требуется от всех, и того идеала совершенства, кот[орый] представляется тем, кот[орые] в силах итти к нему. Я составил мое мнение тогда преимущественно по вашей же книге об евр[ейской] этике и очень рад был разубедиться в этом.
Рад потому, что для меня равенство всех людей — аксиома, без кот[орой] я не мог бы мыслить. То, что заложено в сердце одного человека, лежит и в сознании всякого другого, и то, что лежит в сознании одного народа, то лежит и в сознании всякого другого. Смотрят только люди и народы с разных сторон. Высота же их или низость — уровень их один и тот же. И потому я теоретически признавал всегда то, что вся высота христианского учения доступна всякому народу, тем более еврейскому, из к[оторого] оно вышло.
Мешает этому, я думаю, преимущественно та исключительность, та особенная миссия, которую приписывают себе евреи. Знать свою миссию народу, как человеку свое призвание, не117 118 только не нужно, но вредно. Человек и народ должен всеми силами делать то, что составляет его призвание, а не определять его, так как определить его и нельзя до самой смерти. — Призвание определяется после смерти. Последние часы, минуты могут придать смысл всей предшествующей деятельности, или погубить ее, — и потому, пока жив, ни на минуту не надо отвлекаться рассуждениями праздными о том, в чем состоит моя миссия, — от исполнения ее; кроме того, рассуждения о миссии еврейства, обособляя еврейство, делают его отталкивающим, для меня по крайней мере. Как противно, отвратительно англосаксонство, германство, славянство (в особенности мне славянство), так противно еврейство,3 как какое-то сознанное, обособленное начало, возведшее себя4 самозванно в какую-то должность и чин.
Есть люди более или менее разумные (и потому свободные) и добрые — и чем они разумнее и добрее, тем они теснее, органичнее сливаются друг с другом воедино, будь они германцы, англосаксонцы, евреи или славяне, тем они дороже друг другу; чем они менее разумны и добры, тем более они распадаются и становятся ненавистными друг другу. И потому кажется, что и еврею, и зулу,5 и русскому больше нечего и делать и не к чему иному стремиться, как к тому, чтобы быть как можно разумнее и добрее, забывая о своем славянстве или еврействе, что и давайте с вами делать.
Л. Толстой.
Печатается по публикации в журнале «Летопись» 1916, 3, стр. 220—221, где впервые напечатано полностью. Впервые опубликовано, с пропуском нескольких слов и датой «5-го июля 1890 г.», в книге: Ф. Б. Г[ец], «Слово подсудимому!», СПб. 1891, стр. X—XII. Дата машинописной копии из AЧ подтверждается записью в Дневнике Толстого 30 июня (см. т. 51, стр. 56).
Ответ на письмо Ф. Б. Геца из Царского Села от 14 июня 1890 г., написанное после подписания Толстым составленного В. С. Соловьевым протеста. См. письмо № 34. Гец благодарил Толстого за подписание протеста.
1 Гец прислал Толстому несколько книг по вопросу этики талмуда.
2 Письмо Геца из Москвы от 29 мая 1890 г.
3 Об этом же см. запись в Дневнике Толстого 10 мая 1890 г. (т. 51, стр. 41).
4 В «Летописи» вместо: себя напечатано: его. Исправляем по машинописной копии из AЧ.118
119 5 В «Летописи» вместо: и зулу напечатано: и германцу. В статье «Слово подсудимому» эти слова пропущены. Исправляем по машинописной копии из AЧ.
* 104. И. И. Горбунову-Посадову.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Дорогой Иван Иванович!
Как странно, что ваше предпоследнее письмо, разъехавшееся с моим, было как бы отголоском того самого, что я писал вам, именно о том, что надо дорожить сознанием ясным своей неправоты, а не стараться заглушать это сознание разговором о ней (о неправоте) с другими. —
Что это ваши глаза? Неужели не лучше?1 Посылаю вам воззвание общества трезвости, основавшего[ся] в Цюрихе. Хорошо бы перевести и напечатать где-нибудь это воззвание.2 Есть общие мысли с моей статьей, о кот[орой] я всё ничего не знаю. Я дал ее Дунаеву для передачи Гольцеву.3 Пишите мне чаще. Иванову4 скажите, что Сытин5 взял его переделку, Маша должна была написать ему.
Я совсем здоров и тужу о том состоянии, в к[отором] был больной: далеко я ушел в дурную сторону от того состояния. Поша б[ыл] у Алехиных, а с нами переписался только, но не был.
Прощайте, целую вас.
Л. Толстой.
Дата определяется записью в Дневнике Толстого 1 июля (т. 51, стр. 56) и упоминанием этого письма под датой«30 июня» в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на два письма Горбунова без даты.
1 Письма И. И. Горбунова написаны под диктовку его братом Н. И. Горбуновым, так как у И. И. Горбунова болели глаза.
2 «Воззвание швейцарского Цюрихского общества трезвости» опубликовано в русском переводе в сборнике «Против пьянства», изд. «Посредник», М. 1893.
3 Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?». См. т. 27 и прим. 3 к письму № 63.
4 Николай Никитич Иванов (1867—1913), был одно время сотрудником «Посредника». См. о нем письма 1894 г., т. 67. При письме к Толстому от 29 мая прислал переделку лубочной книжки для Сытина «Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве. Сцены» (издана Сытиным в 1891 г.).
5 Иван Дмитриевич Сытин (1851—1935), книгоиздатель. См. т. 63, стр. 414—415.
105. А. В. Жиркевичу.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Александр Владимирович!
Я получил вашу книжку и письмо тогда же, во время моей болезни, и прочел их. Вы спрашиваете моего мнения о книге и совета.
Совет мой тот, чтобы оставили литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворная. — Простите меня, если мои слова оскорбят вас, но старому лгать, как богатому красть, незачем и стыдно. Правда же может быть полезна. Книжка ваша не может никого увлечь и никому ни на что не может быть нужна. А между тем, она стоила вам, очевидно, большого и продолжительного труда. Вы спрашиваете: есть ли у вас то, что называется талантом? По-моему — нет. Продолжать ли вам писать? Нет, если мотивы, побуждающие вас писать, будут такие же, как и те, кот[орые] побудили вас написать эту книгу. — С вашим мнением о том, что есть искусство, я совсем несогласен.1
Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое,2 важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя.
Для того же, чтобы выразить это содержание наиболее ясно, пишущий будет употреблять все возможные средства, будет освобождать себя от всяких стеснений, препятствующих точной передаче содержания, а никак не спутает, стеснит себя обязательством выражать это содержание в известном размере и с известным повторением созвучий на определенных расстояниях.
Человек мыслит словом, как утверждает Макс Мюллер —3 без слов нет мысли, и я совершенно согласен с этим. Мысль же есть та сила, которая движет жизнью и моей, и всего человечества. И потому несерьезно обращаться с мыслью есть грех большой, и «verbicide»4 не меньше грех, чем «homicide».5
Я сказал, что у вас нет, по-моему, того, что называется талантом, я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того120 121 блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются талантом, но кот[орый] я не считаю нужным для писателя.
Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету. А это будет ли у вас или нет, никто не может знать, и я не знаю. Могу только сказать, что когда у вас будет такое отношение к предмету, вас занимающему, тогда пишите, и тогда то, что вы напишете, будет хорошо.
Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову в вас недоброжелательное к себе чувство, и буду вам очень благодарен, если вы ответите мне.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 418. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 30 июня (см. т. 51, стр. 56).
Александр Владимирович Жиркевич (1857—1927) — военный юрист, поэт и археолог.
В письме из Вильны от 28 мая 1890 г. А. В. Жиркевич сообщал, что послал Толстому свою поэму «Картинки детства», изданную под псевдонимом «А. Нивин» (тип. т-ва «Общественная польза», СПб. 1890), просил высказать о ней свое мнение и дать совет, следует ли ему продолжать заниматься литературой; приводил сочувственные отзывы о своей книге И. А. Гончарова и И. Е. Репина.
1 Свой взгляд на искусство Жиркевич изложил в надписи на присланном Толстому экземпляре книги. Экземпляр этот в яснополянской библиотеке не сохранился.
2 Зачеркнуто: неизвестное, непонятное людям
3 Макс Мюллер (Мах Müller, 1823—1900), автор ряда трудов по языковедению и истории религий. Толстой имеет в виду мысль Мюллера, высказанную в его книге «Lectures on the science of language» (русское издание: «Наука о языке», Воронеж 1868. См. вып. I, стр. 62, 63 и 68).
4 [«убийство слова»]
5 [«убийство человека».]
А. В. Жиркевич ответил Толстому письмом от 14 июля 1890 г. (см. «Литературное наследство», 37-38, М. 1939, стр. 418—420).
* 106. В. П. Золотареву.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Спасибо за письмо, милый друг, Вас[илий] Петр[ович].
Я затерял его и отвечаю без него, отвечаю только с тем, чтобы сказать, что я его получил. Получил и статью.1 Она очень121 122 нравится. Тут был Ге (старший) и, читая ее, пришел в восхищение. Страхов, критик строгий, тоже одобрил. Это приятно, но не важно. Как вы живете? Какие отношения с людьми? Недавно думал: чем хуже условия жизни в мирском смысле, тем больше матерьяла для работ[ы] в духовном. Я совсем здоров, понемногу работаю.
Все мои вам кланяются и поминают добром.
Л. Толстой.
Дата машинописной копии из AЧ.
1 Статья В. П. Золотарева о «Крейцеровой сонате». См. прим. к письму № 84.
*107. Е. А. Лёве (Eugen von Loewe).1
1890 г. Июня 30. Я. П.
С большим удовольствием изъявляю свое согласие на напечатание перевода Послесловия в Крейцеровой Сонате. Надеюсь, что рукопись, с которой сделан перевод, последняя версия, кончающаяся словами «а то и другое дано нам».
Пишу это, потому что как «Крейцерова Соната», изданная по-немецки, есть перевод с неверной рукописи,1 так и послесловия был список неокончательный.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии.
Евгений Августович Лёве (Eugen von Loewe) — преподаватель немецкого языка в Петербургском первом реальном училище; обратился к Толстому с письмом на русском языке от 18 июня 1890 г. с просьбой разрешить напечатать его перевод на немецкий язык послесловия к «Крейцеровой Сонате».
1 См. прим. 1 к письму № 13. В 1890 г. в Германии было напечатано несколько переводов «Крейцеровой сонаты» (Р. Лёвенфельда, Гауфа и Роскошного).
108. Г. А. Русанову.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Дорогой Гаврило Андреевич. Спасибо за ваше письмо. Мне всегда радостно получать известия от вас, хотя бы и такие, как последнее — о вашей болезни. Нет ничего худого и в болезни,122 123 если мы сами не вносим это худое в нашем взгляде на нее. И как вижу из письма, она не нарушает вашей жизни, как не нарушит ее и смерть тела. Помогай вам бог. —
Я теперь совсем здоров и с умилением вспоминаю о том хорошем состоянии, в к[отором] был во время болезни: чувствую, как с тех пор опять далеко отошел от духовного состояния, в к[отором] был — оскотинился. —
Плоды просвещ[ения] у меня есть коректурный оттиск и посылаю его вам. Послесловие прошу Машу списать и прислать вам, но если вы прежде получите от Бул[анже], то напишите. А то лучше я вам пришлю статейку, предисловие к новой книге доктора Алексеева о пьянстве «Для чего люди одурманиваются», кот[орая] может быть вам интересна.
Жена хочет напечатать в 13-м томе и Крейц[ерову] Сон[ату], и Пл[оды] Пр[освещения].1
Я теперь пью кумыс и ничего почти не делаю.
Третьего дня получил из Парижа перевод Бондарева статьи с моим предисловием и предисловием переводчика под заглавием Le Travail2. Очень хорошая вышла книга и, думается, может быть на пользу людям. Вспомнил я о ней по случаю ваших мальчиков, про кот[орых] вы пишете, что они хотят работать в поле. Поцелуйте их за меня и посоветуйте от меня не ленясь, с некоторым даже усилием работать полевую работу. Они увидят, какие радостные останутся воспоминания.
Жене вашей душевный привет, и Пастухову, и Бул[анже], и Алмазову. Любящий вас Л. Толстой.
На конверте: В город Землянск, Воронежск[ой] губ. Гавриилу Андреевичу Русанову. До востребования.
Впервые опубликовано в «Вестнике Европы» 1915, 3, стр. 18—19. Дата определяется сопоставлением слов письма о получении «третьего дня» книги «Le Travail» с записью в Дневнике Толстого 28 июня (т. 51, стр. 56) о получении в этот день упомянутой книги и подтверждается упоминанием этого письма под датой «30 июня» в Списке В. Г. Черткова.
Ответ на письмо Русанова от 10 июня 1890 г., в котором Русанов писал о своей болезни и просил Толстого прислать ему копии «Плодов просвещения» и послесловия к «Крейцеровой сонате».
1 См. прим. 7 к письму № 69.
2 Статья крестьянина Тимофея Михайловича Бондарева (см. т. 63, стр. 277—278) «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство»123 124 с предисловием к ней Толстого, написанным в 1886 г., была напечатана в Париже в 1890 г. в книге: Leon Tolstoï et Timothée Bondareff, «Le travail». Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pagès, Paris (Лев Толстой и Тимофей Бондарев, «Труд». Перевод с русского Б. Цейтлина и А. Пажеса, Париж).
109. П. М. Третьякову.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Спасибо за доброе письмо ваше, почтенный Павел Михайлович.
Что я разумею под словами: «Картина Ге составит эпоху в истории христианского искусства»? Следующее: Католическое искусство изображало преимущественно святых, мадону и Христа, как бога. Так это шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его, как историческое лицо.
Но изображать, как историческое лицо, то лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами людей богом, неудобно: неудобно потому, что такое изображение вызывает спор. А спор нарушает художественное впечатление. И вот я вижу много всяких попыток выдти из этого затруднения. Одни прямо с задором спорили, таковы у нас картины Верещагина,1 даже и Ге Воскресенье.2 Другие хотели третировать эти сюжеты, как исторические, у нас Иванов,3 Крамской,4 опять Ге Тайная вечеря.5 Третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет, как всем знакомый, и заботились только о красоте (Доре,6 Поленов7). И всё не выходило дело.
Потом еще были попытки свести Христа с неба, как бога, и с пьедестала исторического лица на почву простой обыденной жизни, придавая этой обыденной жизни религиозное освещение, несколько мистическое. Такова Ге Милосердие8 и франц[узского] художника: Христос в виде священника босой, среди детей9 и др. И всё не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив: Христос и его учение не на одних словах, а и на словах, и на деле в столкновении с учением мира, т. е. тот мотив, к[оторый] составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа, и значение не спорное, а такое, с к[оторым] не могут не быть согласны и церковники, признающие его богом, и историки,124 125 признающие его важным лицом в истории, и христиане, признающие главным в нем его практическое учение.
На картине изображен с совершенной исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучали, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, к[оторому] дела нет ни до Хр[иста], ни до евр[еев], но еще менее до какой-то истины, о кот[орой] ему, знакомому со всеми учеными и философами Рима, толкует этот оборванец; ему дело только до высшего начальства, чтоб не ошибиться перед ним. Христос видит, что перед ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: Какая такая истина? и уходит. И Хр[истос] смотрит с грустью на этого непронизываемого человека.
Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учением истины и представителями сего мира. И это выражено на картине. И это верно исторически, и верно современно, и потому хватает за сердце всякого, того, у кого есть сердце. — Ну вот, такое-то отношение к христианству и составляет эпоху в искусстве, п[отому] ч[то] такого рода картин может быть бездна. И будет.
Пока до свиданья. Любящий вас
Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в «Сочинениях графа Л. Н. Толстого», М. 1911, XX, стр. 352—353. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 30 июня (см. т. 51, стр. 56).
Ответ на письмо Третьякова от 18 июня 1890 г. См. прим. к письму № 95.
1 Василий Васильевич Верещагин (1842—1904), знаменитый русский батальный живописец; написал также ряд картин из жизни Востока на евангельские темы. В майской книжке парижского журнала «Nouvelle revue» за 1866 г. поместил статью «О прогрессе в искусстве», где укорял художников в подражании старым мастерам и в повторении старых способов (см. В. В. Стасов, «Верещагин об искусстве» — Собрание сочинений В. В. Стасова, М. 1894, II, столб. 967. Статья впервые опубликована в газете «Новости» 1886, № 134 от 17 мая).
2 «Вестники воскресения» (1867).125
126 3 Александр Андреевич Иванов (1806—1858). Толстой имеет в виду его картину «Явление Христа народу» (1836—1857).
4 Иван Николаевич Крамской (1837—1887). Толстой имеет в виду его картину «Христос в пустыне» (1872).
5 Написана в 1863 г. Далее в тексте зачеркнуто: Поленов Грешница.
6 Гюстав Доре (Louis Christophe Paul Gustave Doré, 1833—1883), французский иллюстратор, художник, скульптор и гравер. Иллюстрировал Библию (1864) и написал несколько картин на библейские темы.
7 Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927), исторический живописец и пейзажист; написал ряд картин из жизни Христа.
8 Написана зимой 1879—1880 г. и уничтожена автором.
9 Вероятно, картина французского художника Жана Беро (Jean Béraud, род. в Петербурге в 1849 г.).
110. М. А Шмидт.
1890 г. Июня 30. Я. П.
Как радостно слышать про вас всё добрые вести, дорогая М[арья] А[лександровна]. Странное у меня о вас чувство, знаю я, что когда в душе хорошо, то и в мире всё будет хорошо, и знаю, что у вас в душе всё хорошо, а всегда страшно за вас, что вы пересилите, переработаете, и что-то случится, хотя и знаю, что случиться нечему. До сих пор страхи эти не сбывались, и приходилось только радоваться на вашу жизнь. Дай бог, чтобы вас так же радовали мы и другие ваши близкие.
Мне таких радостей, слава богу, очень много. Здоровье теперь совершенно поправилось, и работы предстоит ужасно много. Физически работаю меньше.
Пишите нам почаще.
Лев Толстой.
Печатается по рукописной копии из AЧ. Автограф погиб при пожаре летом 1910 г. в Овсянникове. Отрывок письма с двумя пропусками впервые опубликован в журнале «Голос минувшего» 1919, 5—12, стр. 175. Полностью без подписи напечатано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», изд. Толстовского музея, М. І929, стр. 31. Дата машинописной копии из AЧ.
Мария Александровна Шмидт (1843—1911) — близкая знакомая Толстого. См. о ней в т. 64, стр. 55.
111—112. В. Г. Черткову от 1 и 9 июля 1890 г.
113. П. И. Бирюкову.
1890 г. Июля 11. Я. П.
Спасибо, милый друг, за скорый ответ и за содержание его. Это не совсем то, чего я желаю, но и то хорошо, и за то спасибо. Вот то, что про меня говорят: что я вместо того, чтобы жить хорошо, живу дурно и из своей дурной жизни пишу советы, как жить хорошо, вот это верно и то, что нужно мне. И другое всё верно, но это то, что нужно, настоящее указание греха. Кабы еще, да побольше. Кольнуло меня, п[отому] ч[то] правда, и подействовало. Будем помогать друг другу. Помогайте мне. Ко мне обращаются за помощью, а мне ее как нужно: — Я очень рад за вас обоих, что Е[вгении] И[ванович]1 у вас, целую его. Если ваша любовь с И[ваном] Д[митриевичем]2 не нарушена то всё хорошо. Я живу так, как мне следует. Целую вас.
Л. Т.
Как хорошо бы продолжать и написать то, что вы начали.3
Недавно узнал, что в 70-х годах нашего столетия в Италии в горах жили люди под руководством одного человека Лазарони,4 исповедовавшие непротивл[ение] злу и практическое христ[ианство]. Им велено б[ыло] разойтись. Они не послушались. В них стреляли и убили нескольких и Лазарони. Мне обещали подробные сведения.
Еще есть «Назарены»5 в Сербии, основалось в 50-х годах. О них есть где-то у меня сведения в письме — очень краткие. При этом же нужно бы собрать всё, что у нас зародилось и зарождается: Сютаев, казак в Сибири (помните рукопись, кажется Морозова6), Зосима,7 Емельян8 и мн[огие], мн[огие] др[угие]. Такой сборник, сначала исторический с краткими описаниями учений так называемых ересей и с выставлением главного — практически-христ[ианского] значения, и потом — современных проявлений того же — была бы драгоценная книга. В предисловии надо бы подчеркнуть то, что как было христианство в его начале при Хр[исте], и при апостолах, и при мучениках — всегда смиренно, тайно почти, так оно осталось127 128 и до конца, таково оно и теперь; с тою только разницей, что оно прежде захватывало десятки, а теперь захватывает десятки тысяч людей. И что торжествующим, блестящим, победным, каким его представляют церкви, оно никогда не было и по свойству своему не может быть. — Оно по свойству своему смиренно и незаметно. Оно и душу человеческую и всё человечество захватывает без треска, так, что и не знаешь, когда оно вошло и окрепло.
Замечали ли вы проницательность злобы, того, что мы называем злобой, но что есть не что иное, как не в своем месте, запутавшаяся та же доброта и любовь, к[оторою] жив мир. Я это говорю по случаю той пользы, к[оторую] мы всегда получаем от осуждений, и тем большую, чем больше они проникнуты злобой. Это как какая-то серная кислота, к[оторая] выедает грязь во всех закоулочках. Чем ядовитее, тем лучше. Коли бы мы были чисты, на нас бы не стали употреблять этой серной кислоты, а то наша гадость, вызывая ее, вызывает чувство испортившейся любви, которая и представляется злобой и выедает и к[оторая] полезна очень, очень. А мы как привыкли угощать людей вином, мясом, обкармливать их, думая делать им пользу, так мы и обкармливаем их лестью. А любя, надо дать им попоститься, поголодать и почувствовать то, как они воздействуют на других.
Если будете писать вы и Е[вгений] И[ванович], и И[ван] Д[митриевич], пишите так. И я буду, коли хотите. И[вана] Д[митриевича] и Е[вгения] И[вановича] целую.
В отрывках, почти полностью, напечатано в Б, III, стр. 140 и 143—145. Дата определяется записями в Дневнике Толстого 9 июля, о получении им письма от П. И. Бирюкова, и 12 июля: «Написал вчера письмо и послал» (см. т. 51, стр. 60 и 62).
Ответ на письмо Бирюкова от 6 июля 1890 г., в котором он, исполняя просьбу Толстого, в письме от 30 июня (см. № 101), сообщал Толстому известные ему отрицательные суждения окружающих его людей о жизни и взглядах Толстого. В конце письма Бирюков писал: «Я недавно слышал осуждение вас за то, что вы много пишете писем, отвечая на частные вопросы. Говорилось, что вы поставили себя в ложное положение учителя, оракула, вместо того чтобы самою жизнью отвечать на эти вопросы. Вместо того, чтобы жить, вы пишете рассуждения о жизни».
1 Е. И. Попов.
2 И. Д. Ругин.
3 См. прим. 3 к письму № 5.128
129 4 Толстой имеет в виду итальянского религиозного проповедника «Общества священной лиги» Давида Лазаретти (1834—1878), которого он ошибочно называет Лазарони.
5 Назарены — сектанты в Венгрии и Сербии. См. В. Ольховский [В. Д. Бонч-Бруевич], «Назарены в Венгрии и Сербии», изд. «Посредник», М. 1905.
6 По сообщению Бирюкова, рукопись под названием «За совесть» доставил не Морозов, а ссыльный сектант. По цензурным условиям издана она не была.
7 Зосима Семенович Широв, арестованный в марте 1881 г. за «непочтительное отношение к властям» и за отрицание церкви. Толстой узнал о нем от А. С. Пругавина. См. А. С. Пругавин, «Религиозные отщепенцы», изд. «Посредник», М. 1906, стр. 145—171.
8 Емельян Максимович Ещенко. См. прим. к письму № 176.
* 114. В. А. Гольцеву.
1890 г. Июля 14—15? Я. П.
Посылаю вам, дорогой Виктор Александрович, исправленное предисловие.1 Я бы не утруждал вас, а послал бы прямо в типографию, но не знаю в какую, а потому прошу уже вас: 1) Попросить в типографии, чтобы, исправив, прислали мне два экземпляра сверстанные, 2) чтобы вы сами, прочтя, решили, что может вызвать запрещение всей книги, и выкинули бы. —
Когда может выдти книга?2 Нельзя ли отпечатать предисловие отдельной брошюрой?3
Желаю вам всего хорошего.
Л. Толстой.
Датируется на основании записей в Дневнике Толстого 13 и 14 июля 1890 г. об исправлении корректур «статьи от Гольцева» (см. т. 51, стр. 62).
Виктор Александрович Гольцев (1850—1906) — ученый юрист, либеральный публицист и критик; с 1885 г. редактор «Русской мысли».
1 Предисловие Толстого к книге доктора П. С. Алексеева «О пьянстве», озаглавленное: «Для чего люди одурманиваются?», печаталось в издании журнала «Русская мысль». См. прим. 3 к письму № 63.129
130 2 Книга П. С. Алексеева «О пьянстве» вышла между 24 и 31 марта 1891 г.
3 Отдельной брошюрой статья «Для чего люди одурманиваются?» не была издана, и на этот вопрос Гольцев Толстому не ответил.
115. Л. П. Никифорову.
1890 г. Июля 21—22. Я. П.
Сейчас получил ваше письмо, дорогой Лев Павлович, и очень благодарен вам за то, что вы написали мне о своем, не скажу горе, но затруднении. Очень желаю быть вам полезным и вот посылаю вам то, что придумал: 1) Роман английский Edna Lyall, Donavan.1 Он не новый — лет 5 ему — но почти наверно не переведенный, а между тем очень заслуживающий того: роман с серьезным религиозным содержанием. Я думаю, что Гайдебуров напечатает его в Неделе, несмотря на некоторую опасность в цензурн[ом] отношении, и я охотно напишу ему об этом. Есть еще другой роман того же автора, служащий продолжением этому, We Two.2 Если этот годится, я пришлю другой. 2) Книжечка весьма оригинального и смелого поэта Walt Whitman.3 Он в Европе очень известен, у нас его почти не знают. И статья о нем с выборкой переведенных его стихотворений будет, я думаю, принята всяким журналом (Р[усской] М[ыслью] я уверен, — тоже могу написать). Переводить его стихи не трудно, т[ак] к[ак] и подлинник без размера и рифмы. 3) Drummond’a The greatest thing in the world,4 небольшая статья о любви, прекрасная и имевшая большой успех в Европе. Не знаю только, в какой журнал поместить.5 4) Роман Howels,6 лучшего и очень замечательного американского романиста, с хорошим современным содержанием и прекрасно написанный. Это, если только не переведено, должно быть принято с радостью всяким журналом. Еще посылаю вам хорошенький рукописный рассказ Houthorn’a7 и другой Theuriet.8 Оба годятся для фельетона и для Посредника.
Еще чем не могу ли служить? Приходит в голову, что в нашей большой роскошно живущей семье так много лишнего, что хотелось бы поделиться, если бы вы позволили прислать и указали бы то, чего больше всего недостает, и возраст и рост детей. Я живу попрежнему, недовольный внешними формами своей жизни, и пытаясь улучшить внутреннюю жизнь. Здоровье130 131 хорошо, работаю понемногу. Вас всегда был очень рад видеть и теперь больше, чем когда-нибудь.
Любящий вас Л. Толстой.
Как завидно сложилась ваша жизнь. Помогай вам бог.
Книжки мои, пожалуйста, не заменяйте.
Впервые опубликовано без даты с ошибками в «Ежемесячном журнале» 1914, I, стр. 87. Дата определяется первыми словами письма и почтовым штемпелем «Москва, 21 июля 1890» на конверте недатированного письма Никифорова, на которое отвечает Толстой.
Лев Павлович Никифоров (1848—1917) — революционно настроенный народник, в молодости подвергавшийся гонениям и ссылкам, в 1880—1890-х гг. разделял взгляды Толстого. Занимался переводами. См. т. 63, стр. 318—319.
Ответ на письмо Никифорова без даты, в котором он извещал Толстого, что вследствие пожара у него сгорело всё «до нитки», и просил оказать помощь, прислав или указав книгу, пригодную для перевода. Никифоров сообщал, что сгорели и две книги о Джоне Рескине, взятые им у Толстого, но что он выписал новые и вернет их.
1 Edna Lyall (Эдна Лайэль) — псевдоним английской романистки Ada Ellen Вауly (Ада-Элен Бэли, 1857—1903). Наиболее известный ее роман «Donovan» вышел в Англии в 1882 г.
2 Роман «We Two» («Мы двое») вышел в Англии в 1884 г.
3 Walt Whitman (Уот Уитмен, 1819—1892) — американский поэт-демократ. Книга Уитмена, упоминаемая Толстым и сохранившаяся в яснополянской библиотеке: Walt Whitman, «Leaves of Grass», Walter Scott, London 1887 (Уот Уитмен, «Листья травы», изд. Вальтера Скотта).
4 Брошюра английского богослова и естествоиспытателя Генри Друммонда (1851—1897) «The greatest Thing in the World» («Самое великое в мире»), вышедшая в 1889 г. В яснополянской библиотеке сохранилось шестое издание (Лондон 1890).
5 Здесь сделана сноска рукой Татьяны Львовны: «Отец просмотрел еще раз эту книгу и не одобряет ее, поэтому я ее и не посылаю, он не велел. Татьяна Толстая».
6 William Dean Howells (Уильям-Диан Хоуэлз или Гоуэлс (1837—1920) — американский писатель-реалист. По свидетельству посетившей Толстого в то время американки мисс Гапгуд, Толстой хвалил роман Хоуэлза «The undiscovered country» («Неведомая страна»)» В яснополянской библиотеке сохранился роман Хоуэлза «The Rise of Silas Laphan», Boston 1884 («Карьера Сайлеса Лафена», Бостон).
7 Nathaniel Hawthorne (Натаниель Гоуторн, 1804—1864) — американский писатель, автор многочисленных рассказов. В письме с почтовым штемпелем «Тверь 12 ноября 1890 г.» Никифоров сообщал: «Готорна я перевел и послал в одну провинциальную газету».
8 André Theuriet (Андре Терье, 1833—1907) — французский писатель и поэт, воспевавший патриархальную деревню.
* 116. В. А. Гольцеву.
1890 г. Июля 25. Я. П.
Дорогой Виктор Александрович.
Письмо это вам передаст доктор Лöвенфельд, берлинский переводчик некотор[ых] моих писаний, очень образованный и приятный человек. Я просил его передать вам кое-что о моем предисловьице и узнать о судьбе его. Если можно, дайте ему экземпл[яр] этого предисловия.
Любящий вас Л. Толстой.
Дата определяется сопоставлением упоминаний в предыдущем письме к Гольцеву (см. № 114) и в настоящем письме о статье «Для чего люди одурманиваются?», записью в Дневнике Толстого 26 июля 1890 г. об отъезде (накануне) Лёвенфельда (т. 51, стр. 68) и ответным письмом Гольцева от 28 июля.
117. А. В. Жиркевичу.
1890 г. Июля 28. Я. П.
Очень рад был получить ваше письмо, Александр Владимирович, и очень благодарен за ту доброту, с которой вы приняли мое резкое суждение.
Страстное влечение ваше к литературе говорит в пользу того, что я ошибся, что очень вероятно и чего очень желаю.
Повторяю только то, что пишите только в том случае, если потребность высказаться будет неотступно преследовать вас. —
Еще раз спасибо за вашу доброту.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37—38, М. 1939, стр. 420. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 28 июля (см. т. 51, стр. 69).
Ответ на письмо А. В. Жиркевича от 14 июля 1890 г., в котором он благодарил Толстого за откровенно высказанное мнение о его литературном таланте и писал, что с советом Толстого — бросить литературу — он не может согласиться, потому что «не в силах» побороть своего влечения. См. заключительное прим. к письму № 105.
118. В. Г. Черткову от 28 июля 1890 г.
119. Б. Н. Чичерину.
1890 г. Июля 31. Я. П.
31 июля.
Сейчас получил твои брошюры, любезный друг, и, заглянув в воспомин[ания] о Кривцове,1 не мог оторваться от нее и прочел; так замечательно хорошо, просто, естественно и содержательно она написана. Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное: отношения к крепостным. Невольно возникает вопрос: как, чем поддерживалась вся эта утонченность жизни? Была ли такая же нравственная тонкость, — чуткость в отношениях с крепостными? Я уверен, что отношения эти должны были быть лучше, чем у других, но это хотелось бы знать. С заключением я, противно ожиданию своему, совершенно согласен, и в особенности поразила меня справедливость мысли о зловредном действии на общество развившейся журналистики нашего времени, конца XIX в., при формах правления ХV-го.
Недаром Герцен говорил о том, как ужасен бы был Чингис-Хан с телеграфами, с железными дорогами, журналистикой.2 У нас это самое совершилось теперь. И более всего несоответствие этого заметно — именно на журналистике. — Брошюру о химии3 взял читать сын.4 Он специально занимался химией и писал диссертацию об атомистич[еских] теориях. Я тоже прочту и постараюсь понять. Очень, очень жалею о том, что ты так дурно провел лето. Надеюсь, что совершенно здоровый, проезжая, заедешь к нам. Жена благодарит за память. Прошу передать наш привет жене.5
Любящий тебя Л. Толстой.
Я совершенно здоров, так же, как и все домашние.
Впервые опубликовано в книге: «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 29.
Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — юрист и философ-идеалист. Был профессором Московского университета. В молодости был дружен с Толстым, но дружба их была нарушена резким различием133 134 убеждений. См. т. 47, стр. 410—411 и статью Н. Г. Чернышевского «Г. Чичерин как публицист». — Избранные философские сочинения, Госполитиздат, II, 1950, стр. 619.
Ответ на письмо Чичерина от 27 июня 1890 г. (см. в упомянутом выше сборнике Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, стр. 299—300).
1 Николай Иванович Кривцов (1791—1849), брат декабриста С. И. Кривцова; был ранен в Бородинском сражении и под Кульмом (лишился ноги); друг Пушкина. Толстой читал статью Чичерина «Из моих воспоминаний. По поводу дневника Н. И. Кривцова», М. 1890 — отдельный оттиск из журнала «Русский архив» 1890, I, стр. 501—525 (сохранилась в яснополянской библиотеке).
2 Толстой имеет в виду статью Герцена «Письмо к императору Александру II» (Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т. IX, СПб. 1919, стр. 27).
3 В. Tchitchérine, «Le système des éléments chimiques (Résumé d’un mémoire imprimé dans le Journal de la Société phisico-chimique russe)» (Б. Чичерин, «Система химических элементов. Краткое изложение сочинения, напечатанного в Журнале Русского физико-химического общества»). Брошюра эта сохранилась в яснополянской библиотеке.
4 Сергей Львович Толстой.
5 Анна Алексеевна Чичерина, рожд. Капнист.
Чичерин отвечал письмом, опубликованным в указанном сборнике, стр. 300—303.
* 120. Д. А. Хилкову.
1890 г. Августа 3. Я. П.
Спасибо, Д[митрий] А[лександрович], за ваше письмо.
То, что вы пишете, очень, очень интересно и много занимало меня, именно наше отношение к церковной вере. Я пришел к следующему: Отчего я не волнуюсь, не вступаю в рассуждения по случаю распоряжений министра финанс[ов] о конверсиях или минист[ра] воен[ного] о мобилизац[ии] и т. п.? Оттого, что все конверсии и мобилизации чужды мне: я знаю, что это происходит в области заблуждений, греха. Почему же распоряжения, проповеди архиерея и исцеления Иоанна1 как будто вызывают во мне протест, желание сказать, что это не хорошо, что это обман? Это оттого, что, обманутый словом «христианский», я предполагаю, что это деятельность родственная мне, в одном направлении, только отклоняющаяся. Если вы во мне заметите отклонение и я в вас, мы ведь сейчас с жаром станем говорить друг другу. Хотя церковные христиане и свящ[енник]134 135 И[оанн] и гораздо отдаленнее нам кажутся от нас, но все-таки признаем их занятыми одним с нами, и от этого наше желание поправить их ошибки. Но это заблужденье. Между нами и ими, т. е. их деятельностью и нашей (люди всегда останутся братьями, и нашим братом бедный И[оанн]), нет ничего общего. Менее, чем между деятельностью военного министра и нашей. Нас вводит в заблуждение слово. Я это болью, страданием изведал. На слово христианск[ий] бросишься, и вдруг оказывается, что тут ничего нет похожего, и ты во всем помеха. Я стараюсь выработать, и отчасти достигаю, и вам желаю, такое отношение к этим делам, т. е. слушать рассказ о том, как тот ходил причащаться, а этот к св. Иоанну так, как слушаешь рассказы о том, как этот ездил с визитами,2 а этот затравил зайца.
Рассказ ваш об И[оанне] чудесен, я хохотал всё время, пока читал его вслух.3 Тут ужасно то, что сделали в продолжени[е] 900 лет христианства с народом русским. Он, особенно женщины, совершенно дикие идолопоклонницы. Тот дух христианский, выражающийся в милостыне, в милосердии вообще, занесен помимо, malgré4 церкви. — Я теперь писал маленькое предисловие к Катехизису Балу и декларации Гаррисона и увлекся; хотелось бы написать ясно, вразумительно всё зло, делаемое церковью, — севшей на седалище Моисея, сами не входящие и желающих войти не пускающие. — Много я получаю писем и статей, — всё больше из Америки, — показывающих то, что мы не одни, а что близко, при дверях, и сердце радуется. — Привет вашей жене и товарищам, наши вам кланяются. Матери вашей передайте мой поклон. — Пишите. Всегда так рад вашим письмам.
Л. Толстой.
Большой отрывок напечатан в Б, III, стр. 178—179. В Дневнике Толстого 3 августа имеется следующая запись: «Получил.... чудное письмо Хилкова об [священнике] Иоанне» (т. 51, стр. 71). Возможно, что Толстой ответил на это письмо в тот же день, так как в его Дневнике
3 августа записана мысль, содержащая в сжатом виде основную тему письма.
1 Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский, 1829—1908), протоиерей Кронштадтского собора, один из столпов реакционного бюрократического духовенства. С его именем связывается организация изуверской секты иоаннитов. Неоднократно выступал против Толстого.135
136 2 Можно прочесть: визитом,
3 В письме от 1 августа Хилков подробно описывал свою встречу с Иоанном Кронштадтским 31 июля в с. Николаевке, Сумского уезда Харьковской губ. Письмо Хилкова к Толстому было переписано и получило широкое распространение (см. «Новое слово» 1914, № 8» стр. 33).
4 [вопреки, против воли,]
121. H. Н. Страхову.
1890 г. Августа 4. Я. П.
Спасибо за хорошее письмо ваше, дорогой Николай Николаевич, я решил сначала, что не стоит отвечать на него, п[отому] ч[то] вы сами будете;1 но потом подумал, что вы захотите знать, прежде чем заехать, живы ли мы, здоровы [ли] мы, и испугался, что делаю нехорошо, не отвечая. Мы живы, здоровы и больше, чем всегда, под свежим впечатлением месяца, проведенного с вами, желаем вас видеть поскорее и подольше. Мне очень стыдно, что находящая на меня иногда мрачность могла подать вам повод думать, что вы могли быть неприятны когда-нибудь и чем-нибудь мне. Мне очень совестно за это. Жду вас с истинной любовью. Мой душевный привет Афанас[ию] Аф[анасьевичу] и Мар[ье] Петр[овне].2 Сережа сочиняет романсы и потому держит у себя книгу стихотв[орений] Фета.3 Я проходя заглянул в нее в элегии и, каюсь, прочитал многие из них с большим удовольствием. — Наши вам кланяются и ждут, равно и прекрасный кумыс. —
Ваш Л. Т.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 408—409. Дата определяется пометой H. Н. Страхова на автографе: «4 авг. 1890 г.».
Ответ на письмо Страхова от 24 июля 1890 г. из имения Фета Воробьевка в Щигровском уезде Курской губ. (см. ПС, стр. 406—408).
1 Страхов заезжал в Ясную Поляну на обратном пути из Воробьевки в Петербург и пробыл у Толстого с 8 по 10 августа.
2 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) и его жена Мария Петровна, рожд. Боткина (1828—1894).
3 В издании Юргенсона напечатаны два романса С. Л. Толстого на слова Фета: «Я пришел к тебе с приветом» и «Мы встретились вновь после долгой разлуки».
* 122. K. A. Вяземскому.
1890 г. Августа 8. Я. П.
Вы спрашиваете, почему нельзя любить Христа. Я не говорю о том, что можно или нельзя, должно или не должно любить Христа; я говорю, что я этого чувства не знаю и не понимаю. Говорил же я про это, потому что часто встречал людей, профессирующих фальшивую любовь к Христу; а фальшивое мне всё очень противно, особенно когда оно касается самых важных и дорогих предметов.
Я знаю только две любви: любовь к богу и к живому ближнему. А Христос не бог и не живой человек. И этому, т. е. любви к богу и ближнему, научил меня Христос, за что я ему очень благодарен, почитаю его память, но не люблю, потому что любить можно только бога-отца и живых людей. Христа любить, как бога, я не могу, потому что любовь к неживому во плоти существу может быть только одна к богу-отцу, тому, от которого я исшел и к которому иду, как и научил нас Христос.
Нам не Христа надо любить, а от него понять, как надо любить бога. Если же мы будем себя уверять, что любим Христа, как бога, то мы никак не можем подражать Христу в установлении правильного отношения к отцу, в его любви к богу. А он сам сказал, и я ему верю, что в этой любви всё.
Мы же, пропустив эту сущность учения Христа, делаем себе кумира из Христа и потому, хотя и считаем Христа богом, удаляемся совершенно от учения Христа и лишаем себя возможности следовать ему. И вот эту-то ошибку делают часто; и ошибка эта производит много зла.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии «7 августа 1890 г.» исправляется на один день по записи в Дневнике Толстого 8 августа (см. т. 51, стр. 73) и Списку М. Л. Толстой.
Константин Александрович Вяземский (1852—1903) — воспитанник Пажеского корпуса, путешественник, в 1883—1884 гг. совершивший путешествие верхом по Африке, а в 1891—1893 гг. по Азии. В 1896 г. постригся в монахи в Пантелеймоновском монастыре в Турции. С Толстым познакомился 11 июня 1890 г. в Ясной Поляне. См. Дневники Толстого 1890 и 1891 гг., тт. 51 и 52.
Ответ на письмо Вяземского без даты.
123. Джорджу Кеннану (George Kennan).
1890 г. Августа 8. Я. П.
My dear m-r Kennan,1
Несмотря на английское обращение, смело пишу вам по-русски, уверенный в то[м], что вы, с вашим прекрасным знанием русского языка, не затруднитесь понять меня.
Не помню, отвечал ли я вам на ваше последнее письмо.2 Если я этого не сделал, то надеюсь, что вы за это не сердитесь на меня.
С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в «Century»,3 который мне удалось доставать без помарок.4 Последние статьи еще не прочтены мною, но я надеюсь достать их. В последнее же время вспоминал о вас по случаю ваших, произведших такой шум во всей Европе, статей о сибирских ужасах. Часть этих статей, незамаранная, дошла до меня в журнале Стэда5, не помню каком, «Pall Mall Budget»6 или «Review of Reviews».7
Очень, очень благодарен вам, как и все живые русские люди, за оглашение совершающихся в теперешнее царствование ужасов.
Вы, верно, слышали про страшную историю повешения в Пензе двух крестьян из 7, приговоренных к этому за то, что они убили управляющего, убившего одного из них.8 Это было в газетах, и даже при том освещении, которое дано этому правительственными органами, возбуждает страшное негодование и отвращение, особенно в нас русских, воспитанных в сознании того, что смертная казнь не существует в нашем законодательстве. Помню, сколько раз молодым человеком я гордился этим, теперь же с нынешнего царствования смертная казнь получила у нас права гражданства и без всякого суда, т. е. с подобием его.
Об ужасах, совершаемых над политическими, и говорить нечего. Мы ничего здесь не знаем. Знаем только, что тысячи людей подвергаются страшным мучениям одиночного заключения, каторге, смерти и что всё это скрыто от всех, кроме участников в этих жестокостях.
Разговорился я о том, что интересует вас и не может не интересовать меня; цель же моего этого письма вот какая:138
139 Нынешней зимой появилась на Петербургской выставке передвижников картина Н. Ге: Христос перед Пилатом, под названием «Что есть истина», Иоанн XVIII, 38. Не говоря о том, что картина написана большим мастером (профессором академии) и известным своими картинами — самая замечательная: «Тайная вечеря» — художником, картина эта, кроме мастерской техники, обратила особенно внимание всех силою выражения основной мысли и новизною и искренностью отношения к предмету. Как верно говорит, кажется, Swift,9 что «we usually find that to be the best fruit which the birds have been picking at»,10 картина эта вызвала страшные нападки, негодование всех церковных людей и всех правительственных. До такой степени, что по приказу царя ее сняли с выставки и запретили показывать.11
Теперь один адвокат Ильин (я не знаю его) решился на свой счет и риск везти картину в Америку,12 и вчера я получил письмо о том, что картина уехала. Цель моего письма та, чтобы обратить ваше внимание на эту, по моему мнению, составляющую эпоху в истории христианской живописи картину и, если она, как я почти уверен, произведет на вас то же впечатление, как и на меня, просить вас содействовать пониманию ее американской публикой, — растолковать ее.
Смысл картины на мой взгляд следующий: в историческом отношении она выражает ту минуту, когда Иисуса, после бессонной ночи, во время которой его, связанного, водили из места в место и били, привели к Пилату. Пилат — римский губернатор, вроде наших сибирских губернаторов, которых вы знаете, живет только интересами метрополии и, разумеется, с презрением и некоторой гадливостью относится к тем смутам, да еще религиозным, грубого, суеверного народа, которым он управляет.
Тут-то происходит разговор, [Иоанна] XVIII, 33—38, в котором добродушный губернатор хочет опуститься en bon prince13 до варварских интересов своих подчиненных и, как это свойственно важным людям, составил себе понятие о том, о чем он спрашивает, и сам вперед говорит, не интересуясь даже ответами; с улыбкой снисхождения, я полагаю, всё говорит: «так ты царь?» Иисус измучен, и одного взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее от роскошной жизни лицо достаточно, чтобы понять ту пропасть, которая их разделяет, и невозможность или страшную трудность для Пилата понять его139 140 учение. Но Иисус помнит, что и Пилат человек и брат, заблудший, но брат, и что он не имеет права не открывать ему ту истину, которую он открывает людям, и он начинает говорить (37). Но Пилат останавливает его на слове истина. Что может оборванный нищий, мальчишка сказать ему, другу и собеседнику римских поэтов и философов, — сказать об истине? Ему не интересно дослушивать тот вздор, который ему может сказать этот еврейский жидок, и даже немножко неприятно, что этот бродяга может вообразить, что он может поучать римского вельможу, и потому он сразу останавливает его и показывает ему, что об слове и понятии истина думали люди поумнее, поученее и поутонченнее его и его евреев и давно уже решили, что нельзя знать, что такое истина, что истина — пустое слово. И, сказав: «Что есть истина?» и повернувшись на каблуке, добродушный и самодовольный губернатор уходит к себе. А Иисусу жалко человека и страшно за ту пучину лжи, которая отделяет его и таких людей от истины, и это выражено на его лице.
Достоинство картины, по моему мнению, в том, что она правдива (реалистична, как говорят теперь) в самом настоящем значении этого слова. Христос не такой, какого бы было приятно видеть, а именно такой, каким должен быть человек, которого мучили целую ночь и ведут мучать. И Пилат такой, каким должен быть губернатор теперь в.....14 и в Масачузете.
Эпоху же в христианской живописи эта картина производит потому, что она устанавливает новое отношение к христианским сюжетам. Это не есть отношение к христианским сюжетам, как к историческим событиям, как это пробовали многие и всегда неудачно, потому что отречение Наполеона или смерть Елизаветы представляет нечто важное по важности лиц изображаемых; но Христос в то время, когда действовал, не был не только важен, но даже и заметен, и потому картины из его жизни никогда не будут картинами историческими. Отношение к Христу, как к богу, произвело много картин, высшее совершенство которых давно уже позади нас. Настоящее искусство не может теперь относиться так к Христу. И вот в наше время делают попытки изобразить нравственное понятие жизни и учения Христа. И попытки эти до сих пор были неудачны. Ге же нашел в жизни Христа такой момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестящих140 141 сферах жизни, с преданиями утонченного и добродушного, и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно.
Вот как я разболтался. Истинно уважающий и любящий вас.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Большой отрывок с многочисленными пропусками опубликован в журнале «Вестник Европы» 1904, 11, стр. 24—26. Почти полностью напечатано в ТГ, стр. 26—31. Дата машинописной копии «7 августа 1890 г.» исправляется на один день на основании записи в Дневнике Толстого 8 августа (см. т. 51, стр. 73).
Джордж Кеннан (George Kennan, 1845—1924) — американец-путешественник, писатель, лектор и публицист. В 1885—1886 гг. совершил путешествие по Сибири, с целью изучить систему ссылок в России. Об этом своем путешествии напечатал ряд очерков в «Century Magazine», объединенных потом и изданных в 1891 г. отдельно в двух томах под заглавием: «Siberia and the Exile System» («Сибирь и система ссылки»). Книга эта создала Кеннану большую популярность. В России она была запрещена цензурой и только в 1906 г. появилась одновременно в нескольких переводах.
По возвращении из Сибири Кеннан навестил Толстого. Посещение это описано в его статье «А visit to count Tolstoi» («Посещение графа Толстого»), напечатанной в том же «Century» 1887, июнь. Изложение этой статьи, под заглавием «Американец в гостях у Л. Н. Толстого», см. «Неделя» 1887, № 28 от 12 июля, стр. 889—891.
Толстой пользовался материалами Кеннана о сибирской ссылке в своей работе над «Воскресением», см. т. 33, стр. 391—392.
1 [Дорогой мистер Кеннан,]
2 Сохранилось лишь одно письмо Кеннана к Толстому, датированное 21 декабря 1886 г., в котором Кеннан уведомляет, что посылает биографию B. Л. Гаррисона.
3 «The Century Illustrated Monthly Magazine» — американский журнал.
4 Русская цензура вымарывала или совсем вырезала запрещенные ею места из пропущенной в Россию литературы.
5 О Стэде см. в прим. 3 к письму № 70.
6 «Pall Mall Budget» — английский журнал.
7 «Review of Reviews» — английский журнал.
8 Убийство управляющего имением произошло в Долгорукове, Инсарского уезда Пензенской губ. — родовом имении Тучковых, владелицей которого была в то время Наталья Алексеевна Огарева-Тучкова (1829—1913). Дело об убийстве управляющего крестьянами разбиралось в Пензе временным отделением Казанского военно-окружного суда с 22 по 26 сентября того же года. Из 30 обвиняемых 14 (не 7) было приговорено к смертной казни. Прошение осужденных «на высочайше имя» изменило141 142 приговор: двое были повешены, трое сосланы на вечную каторгу, остальные 9 на 20 лет каторжных работ. По поводу этого происшествия возникла в 1892 г. между Толстым и Н. А. Огаревой переписка, из которой сохранилось лишь одно письмо Толстого (см. письмо от 7 августа 1892 г., т. 66). Письма Н. А. Огаревой-Тучковой, подробно рассказывающие о событии, опубликованы в книге: «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 194—207.
9 Джонатан Свифт (Swift, 1667—1745), английский писатель-сатирик, автор всемирно-известного «Путешествия Лемюэля Гулливера» — сатиры на современный ему общественный строй Англии.
10 [мы обычно находим более вкусным тот плод, который клевали птицы,]
11 Ср. книгу В. В. Стасова «H. Н. Ге», изд. «Посредник», М. 1904, стр. 322.
12 Николай Дмитриевич Ильин (1849 — ок. 1895), в то время частный поверенный в Петербурге. В письме от 20 апреля Ильин предложил Ге выставить картину за границей, на что получил согласие. П. М. Третьяков, купивший картину в июне, дал свое разрешение на это путешествие и вперед заплатил две тысячи рублей. Картина первоначально выставлялась в Германии, затем в Америке, но выставка всюду несла материальные убытки. Ильин беспрестанно писал Ге, прося о высылке денег. Вернулся он в апреле 1891 г., прислав картину наложенным платежом. См. В. В. Стасов, «Н. Н. Ге», стр. 331—346, 365—366.
13 По смыслу: с начальнической снисходительностью. Буквальный перевод: добрым принцем
14 Многоточие в копии.
124. Л. П. Никифорову.
1890 г. Августа 9. Я. П.
Дорогой Лев Павлович!
Посылаем вам кое-какие вещи. Очень будем рады, если вам они пригодятся. Я затерял ваш адрес и пишу в Тверь, куда и пошлю вещи малой скоростью. —
Как радостно общение с такими людьми, как вы, смотрящими религиозно на жизнь.
Мне тоже очень нравится ваша мысль снимать наделы и жить в деревне. Помогай вам бог. Не оставляйте уведомлять о вашем житье-бытье.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 87. Дата определяется сопоставлением настоящего письма с предыдущим142 143 письмом Толстого к Никифорову (см. № 115), ответным письмом Никифорова (почтовый штемпель: «Тверь 16 сентября 1890») и упоминанием под датой «9 августа» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на недатированное письмо Никифорова, в котором Никифоров благодарил за книги, полученные от Толстого (см. письмо № 115), и писал, что после пожара он нуждается в осенней и зимней одежде.
* 125. Д. А. Хилкову.
1890 г. Августа 9. Я. П.
1что мы (большей частью, даже всегда — это наши прошедшие грехи) действуем в области недолжного, и тогда должны выбирать, что из дурного менее дурно, и как нам поступить, чтобы сделать, как должно. Рассудить это, во-первых, никогда не успеешь, а, во-вторых, если бы и успел, этого никогда нельзя сделать, и потому решителем того, что должно, или, скорее, чего не должно, а что скорее можно сделать, остается совесть. Совесть, которая может быть темная, непросвещенная светом христианского разумения, может быть бессознательная, т. е. такая, что человек не знает сам про нее, и может быть просвещенная и сознательная, т. е. что человек вперед определил себе с помощью христианского учения то, чего не должно делать, и, кроме того, в минуту сомнения не отдается одному чувству, но еще спросит себя: как мне должно поступить? Вот к такой совести я и прибегаю, и прибегаю в таких случаях, и совесть эта всегда несомненно и так, что потом я не только не раскаиваюсь, но радуюсь, решала в этих случаях. И решала не так, как можно бы думать, и как говорят многие, что совесть решит, что именно нужно сделать. Совесть моя никогда ничего подобного не решает, — она только ясно, несомненно и бесспорно решает, чего нельзя, невозможно сделать. У нее только один ответ: этого нельзя, и кончено.
Отрывок письма печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии «Осень 1890 г.» уточняется на основании упоминания этого письма под датой «9 августа» в Списке М. Л. Толстой.
В копии AЧ значится: «Д. А. Хилкову (Из непосланного письма)».
1 Начало не сохранилось.
126. М. А. Шмидт.
1890 г. Августа 9. Я. П.
Спасибо за ваше письмо, дорогая М[арья] А[лександровна]. Вы вот часто меня благодарите, а мне как вас благодарить за все те радости, которые вы мне доставляете? Каждое известие о вас (я получил такое через Ге) и письмо от вас — это радость.
Вот живут люди по-человечески и не только не жалеют о брошенном язычестве, а только радуются. И какие люди — испорченные, слабые. Никогда мне не удастся придумать и написать таких доводов в пользу исповедуемого нами учения, какие вы даете своей жизнью.
Маша непременно вам доставит и комедию, и послесловие,1 и еще статейку — предисловие к книге Алексеева о пьянстве,2 и статью, составленную из Катехизиса Баллу и декларации Гаррисона. Баллу — это американец, 87-летний старец, посвятивший свою жизнь на борьбу с ложным учением — о возможности соединения христианства с властью и написавший прекрасные сочинения о непротивлении. Одно из них, кроме Катехизиса, довольно большое, переведено,3 и мы его, по невозможности печатать, будем сообщать тем, кого это интересует. В Америке происходит, на мой взгляд, огромное движение христианское, практическое, которое короче всего определить — стремлением ко всеобщему братству. Я получаю всё больше и больше писем, статей, книг в этом направлении.
У нас живых людей тоже много. Сейчас у нас гостит Рахманов. Он жил у сестры у Буткевича,4 которые поселились на земле и сами работают. По дороге оттуда к нам живут Булыгин,5 точно так же, с одним Бибиковым6 — замечательно милым, кротким человеком. Идет же он к Новоселову на время, а оттуда в Новгородску[ю] губ[ернию] к доктору, чтоб зиму с ним заняться медицинской практикой.7 На него наваливают требования лечения, а он считает себя слишком мало знающим. Лето же он жил у Алехиных. Там было человек 16. Всё сильные духом люди. Продолжатся ли эти общины или нет — всё равно. Они много помогли людям, много опыта духовного вынесено из них.
Вышел франц[узский] перевод Бондарева статьи с моим предисловием под заглавием — Le travail. Очень хорошо. Я пошлю вам одну. Да еще попрошу Машу послать вам книжек144 145 новых Посредника. Что вы не поручите нам что-нибудь? Пожалуйста, поручайте нам, когда вам что нужно.
Все наши вам кланяются. Как я радуюсь за Ольгу Алексеевну. Помогай ей бог. Вы, верно, преувеличиваете, говоря, что вы здоровенны[е] стали. Я очень боюсь, что вы очень изморены. Да, впрочем, это ничего. Только бы жить.
Любящий вас всей душой Л. Толстой.
Печатается по машипописной копии из AЧ, дополненной по рукописной копии из AЧ. Автограф сгорел. Полностью в несколько иной редакции опубликовано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», изд. Толстовского музея, М. 1929, стр. 31—33. Дата копии «10 августа 1890 г.» уточняется упоминанием этого письма под датой «9 августа» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на большое недатированное письмо М. А. Шмидт из окрестностей Сочи от июля 1890 г. с описанием ее жизни.
1 «Плоды просвещения» и послесловие к «Крейцеровой сонате».
2 «Для чего люди одурманиваются?».
3 Книга «Christian non-resistance». См. прим. к письмам №№» 26 и 93.
4 Сестра В. В. Рахманова, Евгения Васильевна, жила со своим мужем Андреем Степановичем Буткевичем на хуторе близ г. Крапивны.
5 Михаил Васильевич Булыгин (1863—1943), близкий знакомый Толстого, владелец хутора Хатунка близ Ясной Поляны.
6 Александр Дмитриевич Бибиков (р. 1862?), сын чернского помещика.
7 Об этом см. в воспоминаниях В. В. Рахманова «Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидесятых и начале девяностых годов» — «Минувшие годы» 1908, 9, стр. 23 и 28—29.
127. В. Г. Черткову от 10 августа 1890 г.
128. Н. Н. Ге(отцу).
1890 г. Августа 22. Я. П.
Получил уже давно ваше письмо, дорогой друг, и хотя оно не требует никакого ответа, хочется откликнуться. —
Третьякову я, грешный человек, писал,1 когда вы еще были у нас, под секретом от всех. Мне искренно было жалко его, что он, по недоразумению, упустит ту картину, во имя кот[орой] он145 146 скупает всю дрянь, надеясь на то, что, собрав весь навоз, попадет и жемчужина. —
У меня был некто Якубовский2 из Петербурга, знакомый Ильина,3 недели две (или меньше) тому назад, и картина еще не уехала. Из Америки кое-кто отвечали.4 Один, Гаррисон,5 пишет, что едва ли будет иметь успех, так как фиаско выставки картин Верещ[агина]6 отбило охоту от русск[их] картин. Ведь везде всё дело рекламы, а тем более в Америке, и успех и неуспех ничего не показывают, как только достоинство и мастерство рекламиста. А вы волнуетесь. Стыдно, дедушка, голубчик. Я говорю стыдно, а сам такой же — дорожу славой мирской. Но борюсь сильно и упорно и вам советую. Я живу хорошо, заливаем волнами моря мирского, но кое-как не захлебываюсь. Золотарев на-днях был. Он ездил к брату7 кончать дела и теперь возвращается к отцу, где прекрасно живет. Теперь у меня Ругин. Он пришел с Рощиным8 из Алех[инской] общины, и Рощин поселился у Буткевича, а Ругин у Булыгина. Все они устраиваются, и внешняя жизнь идет так, что похвалиться нечем, но внутренняя неукоснительно двигается, как росток.
Ну, пока прощайте. Целую вас, и Колечку, и Рубана, и их жен и детей. Как им живется? Верно, хорошо.
Л. Толстой.
Полностью опубликовано в ТГ, стр. 133—134. Датируется на основании пометы на автографе письма и записи в Дневнике Толстого 23 августа: «Вчера написал Ге» (т. 51, стр. 80).
Ответ на письмо Н. Н. Ге, оставшееся неизвестным.
1 См. письмо № 94.
2 Юрий Осипович Якубовский (1857—1929), банковский чиновник сначала в Петербурге, потом в Туркестане. Якубовский заезжал в Ясную Поляну 14 августа проездом в Ташкент.
3 О Н. Д. Ильине см. прим. 12 к письму № 123.
4 См. прим. 1 к письму № 94.
5 Вендель Гаррисон. См. о нем т. 63, стр. 344.
6 Василий Васильевич Верещагин. См. прим. 1 к письму № 109. В 1890 г. картины Верещагина выставлялись в Бостоне.
7 Максим Петрович Золотарев, московский купец; летом жил в имении близ г. Серпухова.
8 Сергей Иванович Рощин (р. 1864), уроженец г. Выксы, Нижегородской губ.
129. В. Г. Черткову от 22 августа 1890 г.
130. П. И. Бирюкову и Е. И. Попову.
1890 г. Августа 24. Я. П.
Слова же «верую, помоги моему неверию» я никогда не любил. Петр I повторял их.
Не надо говорить: не верю, а хочу верить (то же, только переставлено), а если чуть-чуть не веришь, то сейчас же всеми силами души, т. е. ума, внимания, энергии, итти по этому открывающемуся пути неверия. Если же искать, искать извне помощи, то я искал бы ее для неверия. И сказал бы: не верю, помогите все моему неверию.
Надо смело итти по неизвестному пути, который открывается, его узнаешь только, когда пойдешь по нем. «Ну, не верю, ну, всё это слова, измышления людские. Ничего нет разумного, совершенного вне меня. Назначения мне нет никакого. И мои дела, и жизнь безразличны и никому не нужны такие или иные». — Ну, и прекрасно, и давай жить дальше с такими взглядами, давай действовать, а если скучно и совсем ясно, что всё — всё равно, давай застрелюсь. Где пистолет, и порох, и пуля?
Я хочу сказать, что для познания истины мало ума и желания, нужна энергия, последовательность, упорная мысль. Чтобы узнать истину, нужно пробить перегородки, стены лжи. А чтобы пробить их, надо смело итти на них, в них.
«Верую, помоги моему неверию», это то рассуждение, которое поддерживает подобие веры, держит на балансе палку, которая должна упасть. Это та вера, которая делается, а не та настоящая, которою всё остальное делается.
Так: «Господи, милостив буди мне грешному» я теперь не совсем люблю, потому что это молитва эгоистическая, молитва слабости личной и потому бесполезная.
Опять слабость личности никто не поддержит. Если личность, то слабость. Чтобы спастись от нее, надо найти опору вне себя — забыться в работе (как мы забываемся в тачании сапогов, в пахоте), в работе всей жизни. А успокоить личность нельзя. Как скоро личность, то она мечется и страдает. А «Верую, господи, помоги моему неверию» я совсем не люблю, потому что это прямо дурно. Если уже так, то лучше сказать себе: не147 148 верю, как прекрасно, что я не верю. Давай разрушу в себе всю эту чепуху, которую я назвал верой, и буду жить весело и свободно. Только этим путем можно прийти, и не прийти, а сознать, обнажить свою веру. Перестать, как тот мальчик, который упал в колодезь, держаться за край и прыгнуть вниз — на дно.1
2....О работе. Я думаю и думал, что работа, производимая не только для удовлетворения первых потребностей жизни своих и других, — грех, но что идеал Христа, как и в брачном вопросе, состоит в том, чтобы не жать, не сеять, и что работа, как добродетель, le travail, как то считается в Европе и у нас трудолюбивыми мужиками, есть величайший и злейший соблазн.
Вопрос этот, милый друг Е[вгений] И[ванович], большой. Не знаю, сумею ли ответить нынче, попытаюсь; но это письмо заканчиваю.
2....Начал писать о работе, стараясь самому себе уяснить это дело, кажущееся мне требующим разрешения (мне кажется даже, что у меня есть данные для разрешения), — но не удалось. Надо еще пожить и подумать.
А вот дело, какое я вам предложил бы обоим: это написать краткое исповедание веры, взяв за основу церковные разнообразные символы веры, и сказать, во что из этих догматов мы верим со всеми вместе (напр., в бога отца и еще что) и во что не верим. Это можно указать только, как например: не верим в искупление, не верим в Анну Ли шекеров, в непогрешимость папы и т. п. Это бы лучше всего показало то, что мы со всеми согласны и не выставляем никакого догмата, в который бы какие бы то ни было христианские исповедания не веровали, но что они хотят быть несогласными с нами, и не потому, почему они несогласны с другими исповеданиями, например, наши с папистами, что другие выставляют догматы, в которые они не верят, а потому, что они каждый со своей стороны требуют, чтобы мы верили в их разные догматы, в которых они между собой несогласны. — Попытайтесь это сделать.
А вы пишите почаще. Целую вас.
Мы живы и здоровы. Я пью кумыс и жду, когда это кончится, а то слишком здоров. Суета у нас ужасная. Гости, гости, гости. Но живем не очень дурно, больше, кажется, любви между всеми, чем прежде.
Л. Толстой.148
149 Печатается по неполной публикации в ПТС, I, стр. 192—194. Автограф сгорел, и более полная копия неизвестна. Дата, имеющаяся в ПТС, «1890 г., август» уточняется на основании записи в Дневнике Толстого 26 августа (см. т. 51, стр. 81).
Ответ на письмо без даты Е. И. Попова (с небольшой припиской П. И. Бирюкова), написанное с хутора Бирюкова в Ивановском, Костромской губ.
1 Об этом см. запись в Дневнике Толстого 24 июля 1890 г., т. 51, стр. 66.
2 Точки в копии.
* 131. Чарльзу Андерсену (Charles Andersen).
1890 г. Августа 25. Я. П.
Dear Sir,
I have tried to answer your question in the epilogue to the Kreutzer Sonata. You ask if I mean that sexual intercourse should not be indulged at all. I answer: yes. Every man and woman ought to know and to believe that it would be better for him or for her to be completely chaste (in marriage or out of it) and to have no sexual intercourse at all. But if you ask what will be the consequences of such a belief (if such belief should become common to all, which cannot be before many and many centuries). I will answer you that I don’t know and don’t wish to know, because it is no business of mine: what I know is that for my soul and for everybody’s soul it will always be better to be chaste, than to indulge in sexual love. And this I know perfectly in my conscience, and you know the same, and this is business of mine, because it concerns my soul of which I have the charge. (You must excuse my bad English and try to understand what I mean). Judging by your letter you are in earnest about moral questions, i.e. conduct, and therefore I am sure that you will find the right way in this question as in others.
Yours truly.
Милостивый государь,
Я пытался ответить на ваш вопрос в послесловии к «Крейцеровой сонате». Вы спрашиваете, разумею ли я, что следует совершенно воздержаться от половых сношений? Отвечаю: да. Каждому мужчине и каждой женщине следует знать и верить, что для него или для нее было бы лучше149 150 оставаться совершенно целомудренными (как в браке, так и вне его) и вовсе не иметь половых сношении. Но если вы спросите меня, каковы будут последствия такого убеждения (если оно станет всеобщим, — а это может совершиться не ранее многих и многих столетий), то я отвечу вам, что я этого не знаю и не хочу знать, потому что это вовсе не мое дело; знаю же я то, что для моей души и для души всякого человека всегда будет лучше быть целомудренным, нежели предаваться половой любви. И это я отлично знаю в моей совести, и вы знаете то же самое. И это мое дело, потому что оно касается моей души, которая мне поручена. (Извините мой скверный английский язык и постарайтесь понять то, что я разумею.) Судя по вашему письму, вы искренно относитесь к нравственным вопросам, т. е. к поведению, и потому я уверен, что вы найдете правильный путь в этом вопросе, так же, как и в других.
Искренно ваш.
Печатается по копии рукой В. Г. Черткова. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 26 августа: «25 а[вгуста].... Написал ответ америк[анскому] инженеру» (см. т. 51, стр. 82).
Ответ на письмо от 19 июля нов. ст. 1890 г. Чарльза Андерсена (Charles Andersen, p. 1859 или 1860), инженера, датчанина по происхождению, проживавшего в городе Астории штата Орегон в США, который писал по поводу «Крейцеровой сонаты». На письмо Толстого Андерсен ответил 24 ноября нов. ст. 1890 г.
* 132. В. А. Гольцеву.
1890 г. Августа 24 или 25. Я. П.
Письмецо это передаст вам, уважаемый Виктор Александрович, мой знакомый литератор А. И. Орлов.1 Он сделал перевод мыслей Паскаля.2 Образец его языка и перевода можно видеть в издании Посредника, мысли Паскаля3 и Гоголя.4 —
Не напечатаете ли вы отдельным изданием, или не поможете ли Орлову войти в сношения с издателем. Очень обяжете меня и будете содействовать появлению хорошего перевода Паскаля.5 Что книга Алексеева?6
Любящий вас Л. Толстой.
Еще просьба: в коректуре моего предисловия7 в выноске 24-й и 25-й стр. до слов: во-вторых, находящихся на 6-й строке выноски 25-й страницы, есть поправки. Все эти поправки уничтожить и оставить, как было до поправок. — Всё это, разумеется, если еще не отпечатано.150
151 Дата определяется следующими данными: словами в письме Орлова к Толстому от 26 сентября 1890 г. о том, что «по возвращении в Москву», он «мог только 20-го числа этого месяца» переговорить с Гольцевым и передать ему письмо Толстого; упоминанием в письме Орлова к Толстому от 26 августа 1890 г., что накануне он был в Ясной Поляне; записью в Дневнике Толстого 26 августа, где Толстой, вспоминая события 24 августа, отметил посещение его Орловым (см. т. 51, стр. 82).
1 Александр Иванович Орлов, бывший провинциальный актер, литератор и переводчик. Переводил Данте, Леопарди и народные песни Сербии, Боснии и Герцеговины. С Толстым познакомился в декабре 1887 г. и состоял в переписке, но письма Толстого к нему неизвестны.
2 Блэз Паскаль (Blaise Pascal, 1623—1662), французский математик, физик и религиозный мыслитель. А. Н. Орлов перевел книгу «Pensées de Pascal, précédées de sa vie par m-me Perier, sa soeur», Paris 1850 («Мысли Паскаля со вступительной биографической статьей его сестры г-жи Перье») под заглавием: «Мысли Паскаля, расположенные по указанию гр. Л. Н. Толстого». Напечатана она не была.
3 Орлов А. И., «Французский ученый Паскаль, его жизнь и труды», изд. «Посредник», М. 1889.
4 Орлов А. И., «Н. В. Гоголь, как учитель жизни», М. 1888.
5 Гольцев за издание этой книги не взялся, но дал Орлову письмо к Н. С. Лескову, в котором просил предложить рукопись А. С. Суворину. Суворин тоже отказал. См. прим. к письму № 263.
6 П. С. Алексеев, «О пьянстве».
7 Предисловие к книге П. С. Алексеева «О пьянстве», озаглавленное «Для чего люди одурманиваются?».
* 133. А. М. Калмыковой.
1890 г. Августа 27. Я. П.
Очень вам благодарен, дорогая Александра Михайловна, за присылку книги. Книга прекрасная, и ее надо бы издать в 5, а не в 50 коп[еек]. Для этого надо ее вновь перевести. Согласны ли вы с этим? Выпишите, пожалуйста, книгу и пришлите мне. Я переведу. А если из ваших знакомых кто возьмется, то было бы прекрасно. Издать я берусь.1 Книга Истор[ия] церкви Попова, если я не ошибся.2
Дружески жму вам руку. Л. Толстой.
Простите, что утруждаю вас выпиской книги.
На конверте: Петербург. Литейная, 60.
Александре Михайловне Калмыковой.151
152 Дата определяется почтовым штемпелем отправления.
Александра Михайловна Калмыкова (1849—1926) — общественная деятельница, много работавшая в области внешкольного образования; имела связь с социал-демократическими кружками. О ней см. в т. 63, стр. 215—216.
1 Т. G. Korning, «Hygiene der Keuscheit», Berlin 1890. Вскоре была издана в русском переводе: Т. Г. Корнинг, «Гигиена целомудрия. Перевел с немецкого и издал д-р медицины Н. Лейнберг», Одесса 1890.
2 Из ответного письма Калмыковой от 20 сентября и из письма Толстого к H. Н. Страхову от 3 сентября видно, что Толстой ошибся: автором нужной ему книги был Смирнов. В яснополянской библиотеке сохранились переплетенные вместе книги: Евграф Смирнов, «История христианской православной церкви. Курс III и IV классов духовных семинарий», изд. 5-е, СПб. 1889; Евграф Смирнов, «История христианской православной церкви. Курс V класса духовных семинарий», изд. 4-е, СПб. 1886. Эти книги послужили Толстому материалом для работы над главой о церкви в книге «Царство божие внутри вас».
134. В. А. Алексееву.
1890 г. Августа 27 или 28. Я. П.
Сейчас получил ваше хорошее, бодрое письмо. Переводов ваших я получил, сколько помню, только Эпиктета.1 Дело ваше очень мне сочувственно, и я желаю вам успеха. Очень рад буду и прочесть переделки Эзопа2 и Плутарха,3 и высказать вам свое мнение.
Прекрасное дело, не скажу думать о смерти, но жить так, чтобы мысль о смерти не нарушала жизни.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано с датой «1890. Кон[ец] VIII» в ПТС, II, стр. 112. Дата определяется сопоставлением первых слов комментируемого письма с почтовым штемпелем на письме В. А. Алексеева от 26 августа 1890 г. «Москва. 27 августа 1890», и упоминанием в Списке М. Л. Толстой.
Василий Алексеевич Алексеев (р. 1863) — переводчик греческих и римских классиков. См. т. 64, стр. 214. В письме из Петербурга от 26 августа 1890 г. Алексеев спрашивал, получил ли Толстой его переводы классиков, посланные в 1889—1890 гг., и сообщал о своих новых работах и изданиях.
1 «Епиктет. Основания стоицизма», «Библиотека греческих и римских классиков», вып. VI, СПб. 1890. В яснополянской библиотеке не сохранилась.152
153 2 Эзоп (ок. VI в. до н. э.), греческий баснописец. Перевод басен Эзопа, сделанный Алексеевым, был напечатан в изд. А. С. Суворина: «Эзоп. Собрание басен. В переводе и переделке В. А. Алексеева», «Библиотека греческих и римских классиков», СПб. 1890.
3 Плутарх (жил около 50—120 н. э.), греческий писатель, автор 46 «Жизнеописаний знаменитых людей». В яснополянской библиотеке сохранилась книга: «Плутарх. Сравнительные жизнеописания. С греческого перевел В. Алексеев. С введением и примечаниями. Том первый. Выпуск первый. Тезей и Ромул», изд А. С. Суворина, СПб. 1891, с надписью В. А. Алексеева от 8 июня 1891 г.
* 135. А. С. Губкиной.
1890 г. Августа 29. Я. П.
Дорогая Анна Сергеевна!
Письмо это вам передаст или перешлет Екатерина Семеновна Кузнецова, девушка из богатого купеческого дома. Она хотела бы употребить часть своего состояния на доброе дело для детей-сирот. — Вы знаете мое мнение о том, насколько ошибочно утверждение, что деньгами можно сделать добро; но я не отрицаю, что могут быть такие случаи или что я ошибаюсь. И потому я прошу своих друзей, и вас в том числе, помочь осуществлению доброго стремления Ек. Сем. Кузнецовой.
У меня есть один план, кот[орый] я предложил: это то, чтобы брать заброшенных детей-сирот, нищих и раздавать их по деревням хорошо живущим там людям, между прочим учителям и учительницам, с тем, чтобы дети эти воспитывались так, чтобы могли быть крестьянами земледельцами или их женами.
Главное дорого оказать любовь и участие г-же Кузнецовой, кот[орая] очень одинока; я уверен, что вы в этом ей не откажете.
Любящий вас Л. Толстой.
Дата определяется записью в Дневнике Толстого 29 августа 1890 г. (см. т. 51, стр. 84).
Анна Сергеевна Губкина (1857—1922) — учительница младших сыновей Толстого в 1887 г. Впоследствии преподавала в женском профессиональном училище Лепешкиной в Москве.
* 136. A. M. Калмыковой.
1890 г. Августа 29. Я. П.
Дорогая Александра Михайловна.
Письмо это вам передаст или перешлет Екатерина Семеновна Кузнецова. Она дочь богатого Ярославского купеческого дома, видела много горя и зла от денег и теперь хотела бы употребить половину своего состояния, 200 тысяч, на доброе дело для детей-сирот. Как это сделать? Вы знаете, что я думаю, что деньгами нельзя сделать добра. Я не могу иначе думать. Но, может быть, я и ошибаюсь; и может быть еще то, что есть такие случаи, в к[оторых] деньги могут понадобиться для скорейшего осуществления доброго дела. Во всяком случае хотелось бы как можно серьезнее и внимательнее отнестись к доброму стремлению Ек[атерины] Сем[еновны]. — Помогите мне в этом. У вас много связей с учителями и учительницами. Мне кажется, что хорошо и можно бы было заброшенных детей-сирот брать и раздавать людям, хорошо живущим в деревнях, между прочим учителям и учительницам, с тем, чтобы они воспитывали их, приготавливая к крестьянской или ремесленной (что хуже) жизни так, чтобы мальчиков охотно брали бы в зятья, а девочек в невестки крестьянские семьи. — Это один проект, но, может, у вас в виду есть что-нибудь еще. Во всяком случае уверен, что вы с уважением и любовью отнесетесь к желанию Ек[атерины] Сем[еновны] и поможете ей чем можете в осуществлении ее желания.
Любящий вас Л. Толстой.
Датируется записью в Дневнике Толстого 29 августа (см. т. 51, стр. 84).
Калмыкова ответила письмом от 29 октября, в котором писала о результатах своих разговоров с Кузнецовой, которые ничего определенного не дали.
137. М. А. Шмидт.
1890 г. Августа 29. Я. П.
Письмо это перешлет, а может быть, и передаст вам Екатерина Семеновна Кузнецова. Она дочь богатого купеческого семейства, видела много горя и бед от денег и теперь хочет отдать половину своего состояния, 200 тыс[яч], на добро для детей-сирот. Как это сделать? У меня есть один план, который154 155 вы знаете, состоящий в том, чтобы добрые люди, хорошо живущие по деревням — учителя, учительницы и просто живущие, как вы, или община, или Поша, Ге и др.1 — брали бы к себе заброшенных детей по два, по три и больше, если могут, и учили и воспитывали их так, чтобы приготовить крестьян, которых бы охотно брали в зятья, и девушек, которых охотно брали бы замуж в крестьянские семьи. Это самое нужное и лучшее; но можно готовить и ремесленников и ремесленниц. На таких детей г-жа Кузнецова выдавала бы, сколько оказалось бы нужным. — Пишу это и чувствую, что всё это пустое и что из этого ничего доброго, как и всегда из денег, выйти не может. — Но боюсь решать и хотелось бы помочь доброму, бескорыстному настроению. Может быть, вы, или О[льга] А[лексеевна]2, или ваши друзья могут найти что-нибудь. Пишу это, главное, с тою целью, чтобы свести вас с госпожей Кузнецовой, которая очень одинока. Может быть, вы вместе и найдете еще что-нибудь. Если бы вы согласились взять к себе детей, то сейчас же можно вам отдать двух знакомых вам детей — Филипушку и Анюту.
Мы живы, здоровы, вас любим попрежнему и радуемся тому, что вам по последним известиям хорошо живется. —
Л. Толстой.
Печатается по копии рукой М. А. Шмидт. Автограф сгорел. Впервые опубликовано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», М. 1929, стр. 33. Датируется записью в Дневнике Толстого 29 августа (см. т. 51, стр. 84).
1 Слова: или община, или Поша, Ге и др. отсутствуют в копии, сделанной М. А. Шмидт. Восстанавливаем их по рукописной тетради № 15 из AЧ.
2 О. А. Баршева.
138. Н. В. Давыдову.
1890 г. Август, конец. Я. П.
Ездит ко мне, Николай Васильевич, старик из Тросны (Крапивенского уезда) просить о сыне своем, Алексее Федотове Трещеве, обвиняемом, сколько можно понять, в поджоге. Теперь он говорит, что сына оправдали, но почему-то он находится в больнице в остроге, и его не выпускают и не отправляют в сумашедший дом, куда, по словам, весьма бестолковым, старика,155 156 он (старик) «сдуру подписался». Если, как можно догадываться, дело в том, что этого человека послали в сумашедший дом на испытанье, то старик резонно просит, чтобы его переправили туда, а не держали в острожной больнице. Не поможете ли ему?
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в сборнике: «Толстой. Памятники творчества и жизни», 2, М. 1920, стр. 32—33. Дата определяется следующими пометами в Записной книжке Толстого: под 26 августа 1890 г.: «Трещев Алексей Федотович обвиняется в поджоге не в полном разуме, просит на поруки» (т. 51, стр. 142), и под 3 сентября: «Трещев в сумашедшем доме — отпустить» (т. 51, стр. 148). Первая запись, вероятно, предшествует настоящему письму; вторая, указывающая на результат просьбы Толстого, сделана после написания письма.
Николай Васильевич Давыдов (1848—1920) — близкий знакомый Толстого, в то время прокурор Тульского окружного суда. См. о нем т. 63, стр. 141—142.
139. В. И. Алексееву.
1890 г. Сентября 3. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой друг В[асилий] И[ванович], и, несмотря на то, что вы не даете мне адреса, пытаюсь1 ответить вам через Орфано,2 к[оторого] адреса тоже не знаю. Ответить мне хочется, п[отому] ч[то] я сам много страдал тем, на что вы жалуетесь, и много думал об этом.
3Первое, не думайте, что состояние ваше вызвано разлукой с женой, холостой жизнью. Хотя это и могло иметь влияние, главная причина, по моим наблюдениям и опыту, возраст: зенит физической силы и даже склон к уменьшению — самое напряженное половое время. Надо знать это, знать, что переживаешь тяжелое время, кризис, и напрячь все силы духовные на эту борьбу, вперед веря в победу, а не готовясь покориться, жениться. Это нехорошо, — неразум[но], грех. Второе то, что, как мне пишет один америк[анский] корреспондент по случаю Крейц[еровой] Сон[аты], замечено б[ыло] в Америке во время войны, что женатые солдаты были самые развращенные. Удобство, ничем не сдерживаемое, удовлетворения полового во время женатой жизни ослабляет, если не сказать развращает. И поэтому мы, испорченные люди, находимся в самых невыгодных условиях156 157 для борьбы, как вы — только что от жизни, в к[оторой] вы десятком лет приучались к полной распущенности в этом отношении. Третье же и главное это то, что, как говорит Батенк[ов] декабрист,4 как мы это читали об Антонии,5 как это я знаю от Урусова6 и по себе, страсть эта никогда не кончается, и потому жениться, т. е. потакать этой страсти, не есть средство исцелиться от нее. Благодарите бога, что вы свободны, и несите крест, как осилите, крест на каждый день. Не могу здесь не повторить того, что я думал и писал в послесловии [к] К[рейцеровой] С[онате]. Старался я думать с богом всеми силами души и думал не для разговора, а для того, [чтобы] жить по тому, что мне уяснится. И уяснилось мне то, что сказано Коринф[янам], 1, VII. Если холост или вдов, то оставайся так, и всеми силами старайся остаться так, надеясь на то, что бог тебе поможет остаться чистым. А пал, то неси всё то, что вытекает из твоего падения. Вытекает же из падения то, что прежде у тебя б[ыла] одна воля, кот[орую] ты подчинял воле бога, а теперь две: твоя и та, с к[оторой] ты стал плоть едина. Это не предписание, а это факт. С кем бы ни пал — женился и всё, что следует из женитьбы. Если же хотеть жениться, то это хуже, чем падение, это отступление от идеала, образца, указанного Христом, принижение его. И последствия такого отступления ужасны.7 Я это знаю по себе. Так вот, милый друг, как я думаю, любя вас всею душой и желая, как умею, помочь вам, как вы мне когда-то помогли.8
9Письмо Ког[ан]10 я давал читать, но больше не буду.
Пишите. Лев Толстой.
Полностью опубликовано впервые в сборнике «Летопись», 12, стр. 313; датируется на основании записи в Дневнике Толстого 3 сентября (см. т. 51, стр. 85) и сопоставления настоящего письма с письмом Алексеева к Толстому от 29 августа 1890 г.
Ответ на письмо Алексеева из Москвы от 29 августа 1890 г., в котором Алексеев писал о своей жизни после развода с женой и о своем намерении жениться на другой.
1 В подлиннике: пытаясь
2 Александр Герасимович Орфано (1834—1902) — отставной поручик лейб-гвардии Преображенского полка, дважды привлекавшийся (в 1862 и 1866 гг.) за связи с революционерами; в 1890 г. железнодорожный служащий в Москве. Выступал в печати, отстаивая церковное учение и «обличая» Толстого. См. А. Г. Орфано, «В чем должна заключаться истинная157 158 вера каждого человека (Критический разбор книги гр. Л. Н. Толстого «В чем моя вера?»)» — «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения» 1887, I, стр. 71—100, 129—157, 296—318. Орфано был близко знаком с В. И. Алексеевым.
3 Абзац редактора.
4 Гавриил Степанович Батенков (1793—1863), один из видных декабристов, приговоренный за участие в восстании к 20 годам каторги и проведший этот срок в одиночном заключении в крепостях Свартгольме на Аландских островах и в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. В 1846—1855 гг. был в ссылке в Томске. Автор записок «Повесть собственной жизни» — «Русский архив» 1881, II (2), стр. 251—276. Возможно, что Толстой имеет в виду письмо Батенкова к Н. А. Бестужеву из Томска от 17 марта 1855 г., опубликованное в «Русской старине» 1889, 8, стр. 334.
5 Антоний Фивский (ок. 251 — ок. 356). Толстой имеет в виду легенду Флобера «La tentation de St.-Antoine» («Искушение св. Антония»).
6 Сергей Семенович Урусов (1827—1897), находившийся в дружественных отношениях с Толстым, его сослуживец по Севастопольской войне; известный шахматист. См. т. 47, стр. 298—299, и воспоминания C. Л. Толстого «Очерки былого», Гослитиздат, М. 1949, стр. 334—342.
7 Последние четыре слова написаны по словам: Моя семейная жизнь вся
8 Об этом см. т. 63, письмо № 590 и прим. 1 к нему, стр. 432—434.
9 Абзац редактора.
10 Наталья Николаевна Коган (1846—1917), педагог, ученица К. Д. Ушинского, одна из основательниц колонии «Криница» (см. т. 51, стр. 209). Алексеев прислал копию с письма Коган к В. В. Еропкину, в котором Коган писала о впечатлениях от алехинской общины в Шевелеве, и просил, по желанию Коган, не давать никому читать этого письма.
* 140. В. П. Золотареву.
1890 г. Сентября 3. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой В[асилий] П[етрович], только нынче и постараюсь ответить.
То, что мое желание смерти дурное чувство, это правда, и я каюсь в этом. Это эгоизм — вы угадали. Здесь для удовлетворения личности ничего не осталось, и вот — скучно и хочется нового. Но не только скучно, а часто тяжело, трудно — много напутано грехов, связывающих по рукам и ногам и мешающих делать то и так, как хотелось бы. Знаю я, что распутать грехи можно и что желание действовать без помехи грехов всё равно, как желание ходить без тяжести тела, и бывают времена,158 159 когда не тяготишься этими грехами и понимаешь, что и здесь и там дело одно: избавиться от грехов, очищаться и приближаться к богу; но бывают, и чаще, минуты слабости — именно эгоизма. И каюсь в них. Эгоизм тем более скверный, что я знаю, что я теперь-то только и стал хоть немного способен на деланье дела божьего. Меня бог учил, берег и приготовил так, что я могу теперь начинать на него работать, а я тут и хочу уйти. Как мальчик, отданный на годы на хозяйское иждивение, который только что подрос и стал способен работать, хочет уйти к другому хозяину. К счастью, тут нет другого хозяина и уйти некуда. Одно могу сказать в свое оправдание, это то, что так радостно не бояться смерти, что я хвастаюсь этим и преувеличиваю на словах свое желание смерти. Тягочусь я, главное, оттого, что не делаю, не могу делать того, что хочется. Вы говорите, что я что-то могу делать. Вот и я тоже думаю в дурные минуты. И когда оказывается, что ничего не могу делать, я прихожу в уныние. Ошибка в том, что я задаюсь многим.
Одно, что нужно, это жить хоть и не без грехов, так хоть с наименьшими грехами. Только бы этим служить богу — тем, чтобы не загрязнить совсем данную мне душу, а очистить ее, а уже о воздействии на других, о подвигах оставить думать.
Это приводит меня и к тому, что вы о себе говорите.
Не ищите подвига, не ищите многого, и у вас будет вера. Сомнения являются, главное, оттого, что мы задаем себе не по силам свои, а не божьи задачи. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». — Помните, как ученики просили его укрепить в них веру, и он сказал притчу о работнике, пришедшем с поля. Не ставь своего значения выше того, что ты еси, и будет вера.
А еще нужно для веры не бояться сомнений, как вы, я вижу, и делаете. Не скрывать от себя сомнений, а, напротив, итти за ними, не бояться их. Не бояться копать до материка: материк никуда не уйдет.
Прощайте, пишите, наши вам кланяются.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Датируется записью в Дневнике Толстого 3 сентября (см. т. 51, стр. 85).
Ответ на письмо Золотарева из Климова посада, Черниговской губ., от 24 августа.
141. H. Н. Страхову.
1890 г. Сентября 3. Я. П.
Спасибо, дорогой Николай Николаевич, за книги1 и за письмо. От книг не отказываюсь, т[ак] к[ак] они у вас дублеты, а мистик2 интересен мне. — Вообще ваши книги много раз мне были полезны. Нынче взял Арнольда3. — Смирнова4 я получил от Калмыковой. Пишите, работайте, дорогой Ник[олай] Ник[олаевич], и пишите то, что самое, самое задушевное. Трудно узнать, что самое задушевное, скажут. Это правда. Но есть приемы узнать. Во-первых, это то, про что никому не рассказываешь, во 2-х, то, что всегда откладываешь.5 — Я пишу так вам, п[отому] ч[то] сам это больно чувствую. Всё откладываешь, откладываешь, занимаешься менее нужным, а силы слабеют, и видишь, что не сделаешь того, что мог. Я думаю, что то же и с вами. Так давайте же делать, что можем, пока живы.
А для этого первое дело — не отвечайте Соловьеву. Я пробежал его статью6 и подивился: что его так задевает. По тону видно, что он не прав. По существу дела, не знаю. И, по правде скажу, не интересуюсь.
Я бы позволил себе вам посоветовать не отстаивать не только Данилевского писание,7 но и свое. — Если с выраженными мною мыслями кто-либо несогласен, то происходит это, главное, п[отому], ч[то] мы стоим на разных точках зрения. Продолжать мне говорить и разъяснять то, что я сказал, с той же точки зрения — бесполезно. Лучше сначала начинать, отыскивая другую более общую точку зрения, с к[оторой], может быть, он и увидит то же, что я.
У нас понемногу разъезжается народ. Засуха кончилась, в поле повеселело. На душе же у меня не скажу чтоб было весело. Очень я недоволен собой — впал в равнодушие и праздность.
Прощайте пока, дай бог вам всего истинного хорошего.
Любящий вас Л. Толстой.
Все наши вам кланяются. Жена уехала вчера в Москву по делам.
Что Хельчицкий?8
3 сентября.160
161 Впервые опубликовано, с ошибками, в ПС, стр. 412—413.
Ответ на письмо Страхова от 22 августа 1890 г. из Петербурга, См. ПС, стр. 409—412.
1 Страхов предлагал прислать следующие книги: 1) И. Лопухин, «Некоторые черты о внутренней церкви», СПб. 1816; 2) P. Poiret, «L'оесоnomie divine», Amsterdam 1687 (Пуаре, «Божественная экономия»); 3) Jeanne Marie Bouvières de la Moth Guyon, «La Sainte Bible», Paris 1790; (Жанна-Мария Бувьер де ла Мот-Гюйон, «Святая библия»); 4) A. Hausrath, «Neutestamentliche Zeitgeschichte», Heidelberg 1868—1873 (Гаусрат, «История нового завета»).
2 Пьер Пуарэ (Pierre Poiret, 1646—1719), протестантский теолог и мистик.
3 Gottfried Arnold, «Unpartheysche Kirchen- und Ketzer-Historie vom Anfang des neuen Testaments bis auf das Jahr Christi 1688», Frankfurt am Mayn 1729 (Готфрид Арнольд, «Беспристрастная история церквей и ересей от начала нового завета до 1688 г. после рождества Христова». Франкфурт-на-Майне).
4 См. прим. 2 к письму № 133.
5 Толстой намекает на слова Страхова в письме от 24 апреля: «Всё мне думается, что я что-то откладываю, что есть что-то самое серьезное, за что нужно взяться всею душою и чего я не делаю» (ПС, стр. 400).
6 Вл. Соловьев, «Мнимая борьба с Западом» — «Русская мысль» 1890, 8, стр. 1—20. Написана по поводу выхода второго издания книги H. H. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», книжка вторая, СПб. 1890.
7 Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885) — друг и единомышленник H. Н. Страхова, автор книг «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» и «Дарвинизм», в которой он высказывался против дарвинизма. Страхов в 1888—1889 гг. подготовил посмертное издание первой книги.
8 Петр Хельчицкий (ок. 1390 — ок. 1460), чешский религиозный писатель. 30 мая 1889 г. Страхов привез Толстому напечатанную, но не сброшированную часть книги Хельчицкого «Сеть веры» (см. т. 50, стр. 307, и т. 64, стр. 250). В настоящем письме Толстой спрашивал о судьбе этого издания.
142—143. С. А. Толстой от 4 и 6 сентября 1890 г.
144. Е. И. Попову.
1890 г. Сентября 16. Я. П.
Дорогой Евг[ений] Ив[анович].
Представьте себе, что я измарал 8 листов почтовой бумаги, три раза принимаясь отвечать на ваше письмо. Всё это оттого соблазна, что я знаю, что письма мои читают и переписывают.1161 162 Хотелось написать яснее и глубже захватить, и ничего не вышло. Пишу теперь, не думая о том, будут или не будут читать, и что ни напишу, пошлю. Пишу, главное, с мыслью быть, если могу, хоть сколько-нибудь полезен вам.
Думаю, что причина тяжести и борьбы, которые вы испытываете и я испытываю, происходит преимущественно от того, что мы не освободились от заботы о славе людской, о мнении людей о нас. (Под словом людей разумейте иногда одного человека — только вашу жену.) Постарайтесь решать свои сомнения о том, как поступить, независимо от мнения людского, представив себе, что никто никогда не узнает, как вы поступите, или что, поступив так или иначе, вы тотчас же умрете, или, что легче всего, выставив себя нарочно перед людьми в действительности в самом подлом, низком свете так, что, как бы ни поступить, упасть ниже уже было бы некуда. «Я и лгун, и свинья, и хвастун, и одно говорю, а другое делаю, и жестокий, и плут». Сделать это, если осилишь в действительности, а не осилишь, то хоть в воображении. Ничто так не путает нас в наших решениях, и не ослабляет в наших поступках, и не вызывает такого мучительного сознания борьбы, как смешение двух мотивов — деятельности для бога, и для славы людской. Не знаешь, где кончается одно и где начинается другое. Не знаешь, во что точно веришь. Точно ли веришь, или хочешь, чтобы люди думали, что ты веришь. Иногда бывает, что думаешь, что веришь в то, во что не веришь, а иногда наоборот — думаешь, что не веришь в то, во что веришь. Может быть, что, как монах, даешь обет целомудрия, не веря в то, что целомудрие лучше наслаждения, и мучаешься; может быть, и то, что думаешь, что ты не выдержишь соблазна, и мучаешься своей слабостью, а ты уже сильнее соблазна и выдержишь его. И потому мой один совет: всеми силами стараться устранить заботу о мнении людском, чтобы узнать, во что веришь. Средство для этого самое лучшее и всегда подручное — унижение себя. И тогда уже жить сообразно тому, во что веришь. — Жить же сообразно тому, во что веришь, по моему, состоит вот в чем: положим, человек про себя знает, что он верит в то, что распутство — будем говорить по отношению к половым сношениям2, — зло и потому не может блудить с разными женщинами, а живет с одной и, кроме того, хочет верить в то, что полное целомудрие лучше распущенности, и потому стремится прекратить162 163 свои сношения и с одной женщиной, но еще не достиг того, чтобы мог сказать, что он не может этого. И вот между этими двумя пределами движется, живет человек, подвигаясь всё ближе и ближе к второму, и так жить хорошо. И это я вам советую: т. е. найти, определить предел того, чего вы по своей вере не можете, и предел того, чего бы вы хотели не мочь, но еще можете, и подвигаться от 1-го ко 2-му.
А то всегда делаешь ошибку: задаешь себе непосильную задачу — говоришь, например, то, что я буду вполне целомудрен, и потом, не достигнув непосильной задачи, говоришь себе: это невозможно, и отрекаешься от добра, к которому должны бы стремиться.
Не целомудрия задачу должен задавать себе человек, а приближение к целомудрию. — Целомудренный живой человек, строго говоря, не может быть. Живой человек может только стремиться к целомудрию, именно потому, что он не целомудрен, а похотлив. Если бы человек не был похотлив, то для него не было бы никакого целомудрия и понятия о нем. — Ошибка в том, чтобы задавать себе задачу целомудрия (внешнего состояния целомудрия), а не стремления к целомудрию, внутреннего признания всегда во всех условиях жизни преимущество целомудрия перед распущенностью, преимущество большей чистоты перед меньшей. Ошибка эта очень важная. Для человека, поставившего задачей внешнее состоянье целомудрия, отступление от этого внешнего состояния, падение разрушает всё и прекращает возможность деятельности и жизни; для человека, поставившего себе задачей стремление к целомудрию, нет паденья, нет прекращения деятельности; и искушения, и падение могут не прекращать стремления к целомудрию, часто даже усиливают его.
Так вот, стараясь свести к короткому выражению то, что я думаю об этом, вот что: 1) Стараться как можно отстранять от себя заботу о славе людской и решать этот вопрос, как бы накануне смерти, как Ренан написал драму, что во время французской революции аббат и графиня, в которую он был влюблен, ночь накануне казни, к которой оба приговорены, проводят вместе.3 Решить, как бы я поступил в таких условиях, и так и поступать без приговора к казни. 2) Как можно больше унизить себя в людском мнении и особенно во мнении той, которая служит предметом соблазна. Тетерев и инд[ейский] петух куражится,163 164 распущается, гордится, величится, чтобы прельстить ее и самого себя возбудить. Чтобы достигнуть обратного, надо делать обратное — смириться, унизиться — перед ней. 3) Не забывать, что ты никогда не был и не будешь вполне целомудрен, а что ты находишься на известной степени приближения к целомудрию и стремишься приблизиться больше и потому никогда не унывать в этом приближении: в минуты искушения, в минуты падения даже, не переставая сознавать к чему стремишься, и говорить себе: падаю, а ненавижу паденье и знаю, что если не теперь, то после победа будет не за ним, а за мною.
Ну вот, ясно, неясно, как умел, сказал вам, милый друг, что передумывал и передумываю, что перечувствовал и перечувствоваю. Может вам пригодиться, даже наверно, потому что мы все идем одной дорогой.
Л. Т.
Печатается по рукописной копии с автографа, сделанной неизвестной рукой в Чехословакии, куда, по словам Е. И. Попова, возил это письмо в 1910 г. Д. П. Маковицкий. Полностью впервые опубликовано с датой «1890 г. сентября 17» по той же копии (не точно) с незначительными разночтениями в ПТС, II, стр. 112—116. Письмо имеет три черновых варианта. Дата публикуемого текста определяется записью в Дневнике 16 сентября (т. 51, стр. 89). Над черновыми вариантами этого письма Толстой работал
11 и 13 сентября, как это видно из Дневника (см. т. 51, стр. 86 и 87).
Ответ на несохранившееся письмо Попова.
1 В рукописной копии: перепечатывают. Исправлено по машинописной копии из AЧ.
2 Последние семь слов, отсутствующие в рукописной копии, вставляются по машинописной копии из AЧ.
3 Жозеф-Эрнест Ренан (1823—1892), французский буржуазный историк и писатель, философ-индивидуалист, сторонник теории «господства избранных». Толстой имеет в виду его драму «L'abbesse de Jouarre» («Жуарская аббатисса»). Указанные Толстым лица этой драмы — не аббат и графиня, но аббатисса из Жуара Юлия-Констанция де Сен-Флоран и маркиз Дарси.
* 145. П. И. Бирюкову.
1890 г. Сентября 17. Я. П.
Спасибо, милый друг П[авел] И[ванович], за ваше последнее письмо. Оно всё хорошее. И я правда что придрался больше к тому, что вы сказали, чтоб высказать свою мысль по случаю164 165 антипатичного мне текста: «верую, п[омоги] м[оему] н[еверию]». А чувство сиротливости смиренной и покорной, когда хочется отдохнуть, отдавшись кому-нибудь другому, сильному, чувство, при к[отором] говорится: «Господи, милост[ив] б[уди] м[не] греш[ному]», я не только понимаю, но часто испытываю. И после того, как послал вам письмо, несколько раз молясь говорил это и вспоминал о том, что я не имел права написать1 вам. Правда, что это слабость, но слабость общая людям. — Мы живем по-старому. По-старому мы с М[ашей] ближе всех друг к другу. Ваше письмо на нее произвело тоже хорошее впечатление, как и на меня. Она смотрит на жизнь и свою (мы на-днях ходили с ней гулять и говорили) хорошо. Живет, стараясь делать хорошее; теперь у нее началась школа (у Фомича;2 в отдельном домике запретили); и кротка, и добра, и ничего не загадывает, и ничего в своих взглядах и чувствах (как я думаю) не изменяет. В замужестве потребности не чувствует. И я за нее тоже. Если бы Таня спросила меня, выходить ли ей замуж, я сказал бы: да. А М[аша] спросила бы, я сказал бы — лучше нет, если она сама не чувствует в этом необходимости.
Я чувствую, что у вас в душе вопрос: любит ли она меня? Я думаю, что да. По крайней мере, из посторонних мущин никто для нее не имеет такого значения, как вы, и она любит вас. Но, как вы писали, разъяснение брачного вопроса с христ[ианской] точки зрения, имело на нее такое же влияние, как и на вас. Прежде разумное сознание влекло туда же, куда и чувство; теперь оно влечет в другую сторону, и сила не чувства, а влечения чувства уменьшилась, но толчки и дерганья, происшедшие от этой перемены, еще не прошли, и душевное состояние еще не установилось ни у вас (я думаю), ни у нее. Поэтому тем лучше ничего не предпринимать. Когда мы говорили с ней, она сказала: пока ты жив, мне есть дело здесь, и я ничего не буду предпринимать. Но если ты умрешь, я не останусь дома. — Нечего загадывать, сказал я, и она от сердца согласилась. — Мне давно хотелось всё это высказать вам, милый друг, и вот и вышла такая минута, и пишу. А то было что-то между нами. А это нехорошо, надо любить друг друга.
Ругин был здесь, и случилось очень неприятное, т. е. такое, кот[орое] показалось очень неприятным, но вышло хорошо. Кто-то сказал жене, что он не только б[ыл], но что он будто теперь болен. И, разумеется, никакие убеждения не помогли, и165 166 она, защищая здоровье своих детей, решила сказать ему, что она не может принимать его. Она сделала это сколько могла мягко, соболезнуя ему, но все-таки б[ыло] тяжело — нам. Он принял это удивительно кротко и ушел. Он живет теперь у Булыгина и приходит на деревню, где я с ним вижусь. Ваше письмо к нему у меня; и я на-днях свезу его к нему. Боюсь, что у Булыгина он не уживется от жены Б[улыгина]. Но он, Ругин, замечательно силен духом, и я радуюсь и подкрепляюсь, глядя на него. — Писать мне многое хочется, но главное, что на очереди и влечет меня, это заключение к деклар[ации] Гаррисона и катехиз[ису] Балу (он умер), в к[отором] хотелось бы ясно и коротко выразить значение непротивления для христианства и то, что люди, признающие закон непротивления и не признающие его, не могут исповедывать одно и то же учение и потому не могут и называться одним и тем же именем.
Л. Т.
Датируется записью в Дневнике Толстого (см. т. 51, стр. 89).
Ответ на несохранившееся письмо Бирюкова.
1 Слова: не имел права написать переделаны из: неправильно написал
2 Михаил Фомич Крюков.
Бирюков ответил Толстому письмом от 25 сентября.
146. В. Г. Черткову от 17 сентября 1890 г.
147. Е. И. Попову.
1890 г. Сентября 20. Я. П.
То, о чем я писал вам, продолжает занимать меня. Это всем нам, всем людям нужно. И дорога хоть какая-нибудь помощь в единой нужной всем работе. Я думал об этом и не дописал вам, кажется, еще вот что:
Ослабляет нас в нашей борьбе с искушением то, что мы задаемся вперед мыслью о победе, задаем себе задачу сверх сил, задачу, которую исполнить или не исполнить не в нашей власти. Мы, как монах, говорим себе вперед: я обещаюсь быть целомудренным, подразумевая под этим внешнее целомудрие. И это, во-первых, невозможно, потому что мы не можем себе представить166 167 тех условий, в которых мы можем быть поставлены и в которых мы не выдержим соблазна. И, кроме того, дурно; дурно потому, что не помогает достижению цели — приближения к наибольшему целомудрию, а напротив.
Решив, что задача в том, чтобы соблюсти внешнее целомудрие, или уходят из мира, бегут женщин, как Афонские монахи, или скопятся и пренебрегают тем, что важнее всего, внутренней борьбой с помыслами, в миру среди соблазнов. Это всё равно как воин, который сказал бы себе, что он пойдет на войну, но только с тем условием, чтобы наверно победить. Такому воину придется уходить от врагов настоящих, воевать с воображаемыми врагами. Такой воин не выучится воевать и будет всегда плох.
Кроме того, это поставление себе задачей внешнего целомудрия и надежда, иногда уверенность осуществить его невыгодно еще и оттого, что, стремясь к этому, всякое искушение, которому подпадает человек, и тем более падение, сразу уничтожает всё, заставляет усумниться в возможности, даже законности борьбы. «Так, стало быть, нельзя быть целомудренным, и я поставил себе ложную задачу». И кончено, и человек отдается весь похоти и погрязает в ней. Это всё равно, что воин с амулетом, который в его воображении обеспечивает его в том, что он не будет ни убит, ни ранен. Такой воин теряет последнее мужество и бежит при малейшей ране — царапине.
Задачей может быть одно: достижение наибольшего по моему характеру, темпераменту, условиям прошедшего и настоящего, целомудрия — не перед людьми, которые не знают того, с чем мне надо бороться, а перед собой и богом. Тогда ничто не нарушает, не останавливает движения, тогда искушение, падение даже, всё ведет к одной вечной цели, — удаления от животного и приближения к богу.
Это-то и приводит меня к самому главному, о чем я тоже писал, но не договорил.
Все дела, которые совершает человек, можно разделить на три разряда дел: одни, такие, которые мы делаем, не спрашивая себя о них, хороши ли они, дурны, делаем их, не замечая их; другие такие дела, которые мы, как говорит Павел, считаем дурными, но все-таки делаем, такие дела, которые мы желаем делать, но не всегда делаем, или не желаем делать, а все-таки иногда делаем. И третьи такие дела, которые мы желаем делать167 168 и всегда делаем или не желаем делать и никогда не делаем. Первый разряд дел это те, которые еще не подпали под суд нашей совести, но из которых, по мере движения нашей жизни, всё больше и больше дел подпадает под суд и переходят во второй разряд. Третий разряд дел это те, которые уже прошли суд нашей совести и, разделившись на добрые и злые, желательные и нежелательные, стали достоянием нашей нравственной природы, — это наш рост жизни, наше единственное и неотъемлемое богатство, приобретенное жизнью (это то, что я прежде мог подраться, напиться, блудить и т. п., теперь не то что не хочу, но уже не могу). Так что первый разряд это материал для переработки жизнью; третий разряд это изготовленное, совершенное жизнью, лежащее в кладовой; второй разряд это то, что теперь на верстаке, что работается.
И как удивительно счастливо, радостно положение людей: хочешь, не хочешь в жизни перерабатывается тот третий разряд: мужает человек — мудреет умом и опытом, стареется — слабеет страстями, и дело жизни совершается. Если же в этом деле положить весь смысл, всю цель жизни, то постоянная радость постоянного успеха.
Так вот понимать это и сознавать, какие дела принадлежат к какому разряду, и всё внимание напрягать на второй разряд — это поможет в борьбе.
Лев Толстой.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Отрывки впервые опубликованы в сборнике: «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch 1901, стр. 25—27; в журнале «Всемирный вестник» 1906, 2, V, стр. 26—27. Полностью опубликовано в ПТС, II, стр. 116—118. Дата копии «21 сентября 1890 г.» уточняется на основании упоминания этого письма под датой «20 сентября» в Списке М. Л. Толстой.
Письмо написано в дополнение к письму № 144.
* 148. А. М. Калмыковой.
1890 г. Сентября 23 или 24. Я. П.
Дорогая Александра Михайловна. Вчера получил ваше письмо и также б[ыл] рад увидать ваш прекрасный почерк, как и вы мой. Спасибо за книгу.1 Сколько я вам за нее должен? И какие еще вы присылаете книги? — Просьба к вам,168 169 дорогая А[лександра] М[ихайловна]. — Друг мой Ге (старший) послал свою картину в Европу и Америку. Вызвался это сделать один частный повер[енный] Ильин. Он и уехал и теперь в Гамбурге. Успех картины огромный. Но не в том дело. Перед отъездом еще Ильина его призвали в министерство и потребовали от него обратно свидетельство,2 что делается только за какой-либо проступок. Он стал спрашивать за что, ему не сказали, но намекнули, что это в связи с его взятым заграничным паспортом. Теперь, когда он уехал, жена его добивалась толку в министерстве и получала всё худшие и худшие сведения: свидетельство отобрали, говорят, что не пустят его воротиться, а если он воротится, то его сошлют. Бедная женщина страшно напугана, сжигает письма и бумаги, ждет обыска и хочет ехать за границу; а у ней 4 детей. Зовут ее Александра Константинов[на] Ильина, Николаевская, д. № 16, кв. 39. Помогите ей. У меня никого нет в П[етер]б[ур]ге, да вы есть, и лучше вас никто не поможет ей, не успокоит ее и не узнает в чем дело. Она хорошая трудовая женщина.
Л. Толстой.
На обороте: Петербург, Литейная, 60. Александре Михайловне Калмыковой.
Дата определяется сопоставлением слов: «Вчера получил ваше письмо» с почтовым штемпелем на письме А. М. Калмыковой: «Тула, 22 сентября 1890 г.». Почтовый штемпель на письме Толстого: «почтовый вагон, 28 сентября 1890 г.». Задержка в отправлении письма произошла, вероятно, вследствие болезни Толстого, начавшейся 24 сентября (см. т. 51, стр. 91).
Ответ на письмо А. М. Калмыковой от 20 сентября 1890 г.
1 См. прим. 2 к письму № 133.
2 Свидетельство на звание частного поверенного.
А. М. Калмыкова отвечала письмом от 29 декабря.
149. Л. Ю. Трушевой.
1890 г. Сентября 24. Я. П.
Не советую вам поступать на фельдшерские курсы. Не советую вообще искать средств делать добро. — Прежде всего надо искать средств перестать делать зло, кот[орым] полна наша жизнь. И нет лучшего средства делать самое плодотворное169 170 добро, как переставать делать зло. А то искание возможности делать большое добро, воображение о том, что мы готовимся к нему или делаем его, лишает нас ясности взгляда на зло нашей жизни. Для себя, по крайней мере, я делаю так, и с тех пор как делаю так, т. е. стараюсь уменьшать зло в моей жизни, жизнь моя полна, и меня не мучает сознание бесполезности ее. Человек доброе существо, и если только он не делает дурное, он делает хорошее. Идеал христианский есть V, VІ, VII гл. Матфея. Сличайте с ними свою жизнь, приближайте ее к этому идеалу и вам хватит работы на всю жизнь.
Л. Толстой.
Печатается по публикации в журнале «Русская мысль» 1911, II, стр. 175. Датируется на основании упоминания об этом письме под датой «24 сентября» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на письмо молодой девушки, Лидии Юдифовны Трушевой, от 21 сентября 1890 г. из Харькова. Трушева просила Толстого ответить на вопросы: «Что делать, куда приложить свои силы, жажду деятельности, по какой дороге пойти, чтобы выйти на истинный путь?» и сообщала, что собирается поступить на фельдшерские курсы, чтобы с «орудием знаний в руках пойти навстречу всем обездоленным и страждущим».
На письмо Толстого Трушева ответила письмом от 16 ноября 1890 г.
* 150. Н. В. Давыдову.
1890 г. Октября 4—13. Я. П.
Помните, я вас просил о Коробкове, страх[овом] агенте,1 судящемся за растраты (пополненные) и еще что-то. Он просит, чтоб я просил вас, что и делаю.
2Жаль, что вы не побывали. Мы больные с Тат[ьяной] Андр[еевной] поправляемся.
Жму вашу руку.
Лев Толстой.
Год в дате определяется упоминанием о деле Боровкова (не Коробкова, см. прим. 1): об этом деле Толстой упоминает в Записной книжке 7 июля 1890 г. (см. т. 51, стр. 141); месяц и число — упоминанием о болезни Толстого и Т. А. Кузминской (см. записи в Дневнике Толстого 4 и 14 октября 1890 г., т. 51, стр. 91 и 95).
1 Толстой ошибся: Боровков. О нем же Толстой упоминает в письме Н. В. Давыдову от 1890 г., см. № 200.
2 Абзац редактора.
151. В. Г. Черткову от 15? октября 1890 г.
152. Л. Ф. Анненковой.
1890 г. Октября 17. Я. П.
Получил ваше хорошее письмо, дорогая Л[еонила] Ф[оминична]. Дело, предстоящее вам и смущающее вас (об иконе), есть то самое, что я считаю делом истинной жизни. Именно в этой тесноте, на этом узком пути, где согрешишь, ступив и направо, и налево, тут-то и совершается самое настоящее божье дело. Одно могу посоветовать по опыту, это то, чтобы хорошенько при решении дела освободить себя от заботы о мнении людском. «Как бы поступил, если бы знал, что к вечеру умру». Так и поступить. Это один совет, другой — тот, чтобы сделать так, как велел Хр[истос]. Когда поведут вас к правит[елям] и судьям, не думайте, что будете говорить, дух бож[ий] будет говорить за вас. Не делать то, что думаешь, что будет хорошо, а то, чего нельзя не сделать, всем существом нельзя. Дольнеру написал, но он, кажется, уехал на Кавказ.1 Помоги вам бог. Любящий вас
Л. Толстой.
На обороте: Курской губ. г. Льгов. Леониле Фоминичне Анненковой.
Впервые опубликовано в ПТС, I, стр. 194—195, с датой «1890 г. окт.». Дата определяется почтовым штемпелем отправления.
Ответ на письмо Л. Ф. Анненковой от 12 октября 1890 г.
1 Л. Ф. Анненкова предлагала А. В. Дольнеру место в школе своего родственника — помещика. Упоминаемое здесь письмо Толстого к Дольнеру осталось неизвестным.
* 153. А. Н. Дунаеву.
1890 г. Октября 17. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой А[лександр] Н[икифорович]. Что я могу сказать вам, чего бы вы не знали? То, что трудно вам, именно то, что и мне трудно. И то, что сделать так, чтоб это перестало быть трудно, и есть дело нашей жизни. Если171 172 научимся от Него кротости и смирению, то и найдем покой душам нашим. Для меня трудность всегда уничтожается, когда удается освободиться совсем от заботы о людском мнении. Если делать так, как велел Хр[истос] в трудных минутах жизни, не думая вперед, что сказать, а предоставлять говорить тому, что есть во мне, тогда тоже облегчается. Если есть во мне гадость — выйдет наружу гадость. Тем лучше, я так и буду знать, и люди будут знать. — Я теперь здоров и очень занят работой, хотя мало пишу. Да, то, что вас занимает, есть самое дело жизни, кот[орым] каждый живет один с богом. И помогай вам бог подвигаться в этой жизни, что, как мне думается, вы и делаете. Любящий вас
Л. Т.
На обороте: Москва. Торговый банк на Ильинке. Александру Никифоровичу Дунаеву.
Дата копии подтверждается почтовым штемпелем.
Александр Никифорович Дунаев (1850—1920) — знакомый Толстого, один из директоров Московского торгового банка.
Ответ на письмо Дунаева от 12 октября 1890 г., в котором Дунаев писал, что к нему иногда приходит ночевать П. Г. Хохлов, не имеющий паспорта, и что это волнует его жену, которая боится, что из-за этого могут сделать обыск; сообщая о своих столкновениях по этому поводу с женой, просил совета Толстого, как лучше поступить в данном случае.
154. H. Н. Страхову.
1890 г. Октября 18. Я. П.
Дорогой Николай Николаевич.
Простите, что не отвечаю на ваше письмо,1 а пишу о деле, утруждаю вас просьбой. Я получил статью из Америки,2 к[оторая] показалась мне очень не только интересна, но полезна. Я сделал из нее извлечение и перевел приложенное в конце ее письмо.3 — Извлечение это мне хотелось бы напечатать. Помогите мне в этом. Прежде всего представляется «Неделя» — в особенности п[отому], ч[то] не хотелось бы обидеть Гайдебурова, если ему это может быть приятно. Если же Гайдебурову не нужно этого извлечения, то в «Новое Время». Письмо же, я думаю, нельзя напечатать по4 тому, что признано называть неприличие, ни в Неделе ни в Нов[ом] вр[емени], хотя бы очень172 173 этого хотелось. И потому нельзя ли его пристроить в специальный журнал или газету Врач5 или т. п.
Очень благодарен вам за книги.6 Все читал или скорее всеми пользуюсь. Ваши статьи,7 простите, прочел с грустью, хотя и понимаю ваше раздражение и удивляюсь на Соловьева.8 Здоровье мое опять хорошо. И многое тщетно хочется писать.
Желаю вам здоровья и сил писать.
Любящий вас Л. Толстой.
Вчера получил письмо от Маши Куз[минской].9 Она пишет, что вы удивляетесь на мое молчание. Пожалуйста, простите и за молчанье, и за просьбу о статье, и еще новую. — Некто Богомолец, врач,10 жена кот[орого] на каторге по делу Киевскому политическ[ому] в 1881 году,11 просит, чтоб ему разрешено б[ыло] приехать в Петербург хлопотать о том, чтобы поехать к жене (она кончает каторгу и должна высылаться на поселение). Ему же, мужу, хотя и не судившемуся, запрещен, вследствие его знакомств, въезд в столицы.
Не можете ли исходатайствовать через кого-нибудь это разрешение. Он основательно говорит, что необходимо быть самому. Он прошлого года просил и б[ыл] у Дурново.12 Ему обещали и потом отказали. Нужно надоедать, а то забудут. Алекс[андра] Мих[айловича]13 я просил, но он отказался помочь мне. Поэтому вы ему не говорите. А если у вас нет других путей, то можно бы через Алекс[андру] Андревну Толстую. — Ну простите.
Ваш Л. Толстой.
Впервые опубликовано с датой: «Конец сентября — начало октября 1890 г.» в ПС, стр. 416—417. Дата определяется по Списку М. Л. Толстой.
1 Письмо Страхова от 15 октября 1890 г. с почтовыми штемпелями: «СПб., 16 октября» и «Тула, 17 октября 1890 г.». Не опубликовано.
2 Статья Burnz, «Diana. A psychophysiological essay on sexual relations for married man and women» (Бёрнс, «Диана. Психо-физиологический опыт о половых отношениях для женатых мужчин и женщин»). См. письмо к Бёрнс, № 162.
3 Элиза Бёрнс, «Письмо к родителям и наставникам». Опубликовано в переложении под заглавием; «Творческая сила жизни» в сборнике «Тайный порок», 2, «Посредник», М. 1910. Сделанное Толстым «извлечение», то есть посланная при настоящем письме к H. Н. Страхову статья Толстого «Об отношениях между полами», написана 13 октября и173 174 исправлена 14 октября. Напечатана впервые в «Неделе» 1890, № 43 от 28 октября, стр. 1368—1370. См. т. 27.
4 Зачеркнуто: его цинизму
5 «Врач» — еженедельная медицинская газета, издававшаяся в 1880—1902 гг. в Петербурге. Издатель Карл Леопольдович Риккер; редактор — Вячеслав Авксентьевич Манасеин.
6 См. прим. 1 к письму № 141.
7 Вероятно, статья «Новая выходка против книги Н. Я. Данилевского», напечатанная в двух номерах «Нового времени» 1890, № 5231 от 21 сентября и № 5242 от 2 октября.
8 См. письма Страхова к Толстому от 20 сентября 1890 г. (ПС, стр. 414—415) и от 15 октября 1890 г. (АТ).
9 Мария Александровна Кузминская (р. 1869), старшая дочь Т. А. Кузминской.
10 Александр Михайлович Богомолец (1850—1935), врач, в 1880 г. привлекавшийся по делу о «преступном кружке» в Киеве. В 1883—1886 гг. был в административной ссылке в Семипалатинской области, после чего ему было запрещено жить в столице.
11 Софья Николаевна Богомолец, рожд. Присецкая (1856—1892), активная участница «Южно-русского рабочего союза», приговоренная в 1881 г. к смертной казни, замененной десятью годами каторжных работ. За попытку к бегству и за постоянные протесты срок каторги был ей увеличен на 6 лет. Умерла на Каре от туберкулеза, освобожденная из тюрьмы за три дня до смерти.
А. М. и С. Н. Богомолец — родители выдающегося советского ученого, президента Академии наук УССР Александра Александровича Богомольца (1881—1946).
12 Иван Николаевич Дурново (1830—1903), в 1889—1895 гг. министр внутренних дел, крайний реакционер.
13 А. М. Кузминскому по просьбе Толстого о деле Богомолец писала T. Л. Толстая.
Ответ Страхова неизвестен, но по поводу своих хлопот он позднее писал Толстому в письме от 2 января 1891 г. См. ПС, стр. 421.
155. В. Г. Черткову от 18 октября 1890 г.
156. В. И. Алексееву.
1890 г. Октября 23. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой Василий Иванович, и не знаю, не умею сказать то чувство, кот[орое] вызвано во мне известием о вашей женитьбе. Скорее жалко. Друг мой, поймите, что я вас так люблю и так высоко ценю, что я не позволяю себе сказать вам ничего того, чего у меня нет в душе, и ничего скрыть из того, что есть. Мне жалко и хочется сказать: женитесь и174 175 живите, как брат с сестрой. Прямо идите на это, а там пусть будет то, что будет по силам. Я не имею права говорить вам — ей молодой, вам в самом трудном возрасте: живите так — это можно, я так жил. Я не имею права говорить это, но еще менее права имею не высказать то страшное, мучительное раскаяние, кот[орое] я испытываю в том, что не жил так, то умиление и восторг, кот[орые] я чувствую перед такою жизнью, ту уверенность несомненную, что так можно и должно жить тем, у кот[орых], как у вас, есть то, во имя чего можно так жить. Прочтите коринф[янам] 1-е послание, 7 глава. Прочтите еще одну английск[ую], другую франц[узскую] брошюры,1 к[оторые] посылаю вам. Верните их мне, когда прочтете. Радуюсь я только тому, что через вас сблизится со мной Вера Владим[ировна], человек из семейства, которое я очень любил2 — и которую я очень люблю уже за то, что она полюбила вас. То, что она полюбила вас, для меня самая полная ее характеристика в самых существенных чертах. Приезжайте к нам. Жена велит вам сказать, что она поздравляет вас и очень за вас радуется.
Я совсем здоров и люблю вас попрежнему и рад буду видеть.
Л. Толстой.
Посылаю не английск[ую] статью, а мое изложение ее.3 Когда прочтете, передайте сыну Лёве в Москве.
Еще хочется сказать вам вот что: Если вы женитесь для своего личного счастья семейного, кот[орого] вы были лишены, надеясь найти его теперь, то ни то, что это нехорошо, а ведь наверно вы ошибетесь, ошибется и ваша невеста. — Для того, чтобы решить верно, нужно одно: «И кто хочет итти за мной, отвергнися от себя...» Отвергнитесь от себя и, только думая о ней, решайте. Тогда решите верно. Вы всё это, может, знаете лучше меня, но мы бываем ослеплены, и любовь в том, чтобы, не дорожа любовью людей к себе, с риском лишиться ее, помогать любимым людям. Стараюсь это делать именно только любя. Не забывайте этого, когда будете читать. Помогайте мне так же.
Полностью впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 316—317. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 23 октября (см. т. 51, стр. 96) и упоминанием этого письма под датой «23 октября» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на письмо В. И. Алексеева из Москвы, ошибочно помеченное автором «24 октября», что видно по почтовым штемпелям на конверте:175 176 «Москва. 14 октября» и «Тула. 15 октября 1890 г.», в котором Алексеев писал о своей женитьбе.
1 Английская брошюра — «Диана». См. о ней в письмах №№ 154 и 162; французская — Angèle de Saint-François, «L’amour pur» (Анжела де Сен-Франсуа, «Непорочная любовь»).
2 Будучи студентом Казанского университета (в 1844—1847 гг.), Толстой был в дружеских отношениях с семьей начальницы казанского женского Родионовского института Екатерины Дмитриевны Загоскиной (1807—1885). В. И. Алексеев женился 12 ноября 1890 г. в Москве на ее внучке, дочери ее сына Владимира Николаевича, — Вере Владимировне Загоскиной (р. 1865). В письме от 18 мая 1891 г. Алексеев писал Толстому: «Вера очень много слышала об Вас от своего отца и бабушки, Екатерины Дмитриевны, про то время, когда они были еще в Казани. Они оба, кажется, Вас очень любили».
3 «Об отношениях между полами».
157. H. Н. Страхову.
1890 г. Октября, 27 или 28. Я. П.
Дорогой Николай Николаевич.
Письмо это передаст вам, должно быть, H. Н. Ге. Я всегда предпочитаю писать с оказией — живая грамота. О статье Розанова1 я собирался писать вам, но забыл. Хотел даже перечесть теперь статью, но ее увез Сережа. Сколько я помню, мне понравилось именно за то, что она высказывает то самое, что я всегда чувствую от чтения ваших книг, — расширение понимания и пробуждение интереса к тому, что прежде казалось мало интересным, п[отому] ч[то] знакомым. Радуюсь знать, что вы взялись за настоящую работу.2 — Про себя, к сожалению, не могу этого сказать. Утешаюсь тем, что сказано в 3-х Евангелиях в Гефсиманск[ом] саду: «Но не моя воля да будет, но твоя (в одном). И не то, что я хочу, а то, что ты хочешь (в другом). И не так, как я хочу, а ты (в третьем)». И когда вспомню это, то мирюсь с своей теперешней мне кажущейся непроизводительностью. Не знаем мы и не можем знать, чем мы призваны служить Пославшему. И то, что мы ценим в себе, может б[ыть], не нужно, а наоборот. Только бы помог бог об себе забывать — отвергнуться от себя.
Спасибо очень за книги.3 Кольриджа пришлю. Я разочарован в нем.4 И что значит Coleredge и Ligton, и только Ligton?5 — Фаpapa6 я терпеть не могу. Фальшивый писатель. —176
177 Помогай вам бог. Обнимаю вас. Простите, что порученья вам надавал в прошлом письме.
Изложение брошюры «Дианы»,7 после того, как я послал вам, мне разонравилось. Я много выпустил и смягчил, а то там есть нехорошее — удовлетворение чувственности в разных видах; и я боюсь, что она может подать повод к соблазну, особенно место о малороссийском обычае жениханья. Да и лучше не печатать ее вовсе. Как вы скажете. Если же печатать, то вычеркните, что лишнее.
Впервые опубликовано с датой «Начало октября 1890 г.» в ПС, стр. 417—418. Основание даты: написано в ответ на письмо Страхова от 15 октября, полученное в Туле 17 октября; отправлено с художником H. Н. Ге, выехавшим из Ясной Поляны 28 октября.
Ответ на неопубликованное письмо Страхова из Петербурга от 15 октября, в котором Страхов писал о желании В. В. Розанова знать мнение Толстого о его статье о Страхове (см. прим. 1), сообщал о своих работах и предлагал выслать Толстому книг для его работ.
1 Василий Васильевич Розанов (1856—1919), реакционный публицист и критик, постоянный сотрудник официозной петербургской газеты «Новое время» и под фамилией Варварин либерального «Русского слова». Страхов прислал Толстому статью Розанова «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» — «Вопросы философии и психологии» 1890, 4, стр. 27—64. Написана по поводу выхода второго издания книги H. H. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», книжка вторая, М. 1890. В дальнейшем Толстой высказывался о Розанове резко отрицательно. См. т. 66.
2 Страхов работал над статьей «О законе сохранения энергии». Напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии» 1891, 2, стр. 97—131.
3 См. прим. к письму № 141.
4 Samuel Taylor Coleridge (Самуэль-Тейлор Кольридж, 1772—1834), английский поэт, публицист, критик и писатель по религиозно-нравственным вопросам. Страхов прислал Толстому его книгу: «Aids to reflection in the formation of a manly character, on the several Grounds of Prudence, Morality and Religion. Illustrated by select passages from our Elder Divines, Especially from Archibishop Leighton» («Помощь в размышлении для образования мужественного характера на основах благоразумия, нравственности и религии. Иллюстрировано избранными цитатами из наших духовных отцов, в особенности архиепископа Лейтона»).
5 Очевидно, не Ligton, a Leighton. Роберт Лейтон (Robert Leighton, 1611—1684), епископ в Дублине, потом архиепископ в Глазго.
6 Фредерик-Вильям Фаррар (Farrar, 1831—1903), английский церковный писатель, придворный капеллан. Страхов предлагал прислать его книгу «Life of Christ» («Жизнь Христа»).
7 Статья Толстого «Об отношениях между полами».
* 158. Е. И. Попову.
1890 г. Октября 29. Я. П.
Напрасно не прислали написанных писем. Может быть, я бы понял, а главное узнал бы о вас, что мне всегда хочется. Начала Таня, дописал я.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Датируется на основании почтового штемпеля, помеченного в копии 30 октября 1890 г.
Письмо Попова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
159. М. А. Шмидт.
1890 г. Октября 29. Я. П.
Получил ваше письмо о детях, которых вы хотите взять. Я думаю, что это не нужно теперь делать. Дети живут при местах, и затевать перемену в их жизни, сопряженную с таким дальним перемещением и расходом без всякого вызова — требования совести — я думаю не нужно. Ведь всё затеялось от того, что хотелось содействовать Кузнецовой в помещении ее денег на пользу детей. Я другого помещения не могу придумать, да и это оказывается не нужно — и предложил. Если случится вызовет потребность, тогда сделаем. Письмо ваше очень коротко, нет подробностей о вашей жизни. Нет сведений о здоровье дорогой О[льги] А[лексеевны].1 Пожалуйста, напишите. У нас жил дедушка Ге месяц, вчера уехал в Петербург.2 Его тревожит семья Ильина, который повез его картину за границу. Картина его в Германии, имеет большой успех. Критические статьи, много которых присылали оттуда, показывают, до какой степени немцы впереди нас в понимании учения Христа жизненного, уличающего богатство и гордость и ублажающего нищету и смирение. — Я живу хорошо. Многое хочется написать — да не пишется — и иногда огорчаюсь, а иногда опоминаюсь и понимаю, что дело жизни — творить волю пославшего, а чтобы творить эту волю, надо быть кротким и смиренным сердцем, отвергнуться от себя и взять крест на каждый день, итти за ним, а не писать.
Печатается по копии, сделанной М. А. Шмидт с автографа. Автограф сгорел. Впервые опубликовано в книге E. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг178 179 Толстого Мария Александровна Шмидт», М. 1929, стр. 34. Дата определяется упоминанием об отъезде Ге (см. Дневник Толстого, запись 29 октября, т. 51, стр. 98),
Ответ на письмо М. А. Шмидт от 18 октября, писавшей, в дополнение к своему письму от 15 сентября, по поводу предложения Толстого в письме от 29 августа о воспитании сирот (см. № 137). М. А. Шмидт сообщала о своем согласии с предложением Толстого.
1 О. А. Баршева.
2 Художник Н. Н. Ге приехал в Ясную Поляну 22 сентября, уехал 28 октября.
* 160. Эмилю де Лавелэ (Emile de Laveleye).
1890 г. Октября 30. Я. П.
Monsieur, je vous suis très reconnaissant pour l’envoi de vos livres, que je viens de recevoir.1 Je connais quelques unes de vos oeuvres, que j’ai lu avec intérêt et profit, entre autres l'histoire du socialisme traduit en russe et très répandue parmi notre jeunesse.
C’est un livre qui a fait beaucoup de bien en répandant des idées justes sur des matières très souvent exposées sous un faux jour. Je connais aussi et j’apprécie beaucoup votre discours: Le vice légalisé.
Je viens de lire les deux articles de votre livre2 et j’étais heureux d’y trouver les idées qui me sont particulièrement chères sur les fausses idées qu’on se fait de la valeur des besoins et la prééminence de la morale dans les questions d'économie politique. Vous avez bien raison de dire dans votre lettre que les masses réclament avec violence une meilleure organisation sociale avant d’être assez préparées pour l’appliquer. C’est la grande question. L’un entraîne l’autre. Une meilleure organisation implique un état intellectuel et surtout moral des masses prêtes à l’accepter et ce ne sont que les principes du Christianisme qui peuvent produire l’un et l’autre: les bases de la nouvelle organisation et la disposition des masses à la recevoir. Ce sont les questions, qui m’occupent le plus en ce moment.
Recevez, Monsieur, mes remerciements et l'assurance de mon éstime et de ma haute considération.
Léon Tolstoy.179
180 Милостивый государь, я вам очень благодарен за присылку ваших книг, только что мною полученных.1 Я знаком с некоторыми из ваших трудов, которые я прочел с интересом и пользой, и между прочим историю социализма, переведенную на русский язык и очень распространенную среди нашей молодежи.
Эта книга сделала много добра, распространяя справедливые мысли по вопросам, часто выставляемым в неправильном освещении. Я также знаю и высоко ценю вашу речь «Узаконенный порок».
Я только что прочел обе статьи вашей книги2 и был счастлив найти там мысли, особенно для меня дорогие, — об ошибочных представлениях, составляемых людьми о ценности потребностей и о первостепенном значении нравственности в вопросах политической экономии. Вы совершенно правы, говоря в вашем письме, что массы прибегают к насилию для достижения лучшего социального строя, не будучи достаточно к нему подготовленными. Это большой вопрос. Одно влечет за собой другое. Лучшая организация требует умственного развития и в особенности нравственного состояния масс, готовых ее принять, и только христианские принципы могут достичь того и другого: основания новой организации и готовности масс к ее принятию. Это те вопросы, которые наиболее занимают меня в настоящее время.
Примите, милостивый государь, мою благодарность и уверение в моем почтении и высоком уважении.
Лев Толстой.
Печатается по копии Т. Л. Толстой с черновика, написанного ею же карандашом под диктовку Л. Н. Толстого. На черновике имеется надпись чернилами рукой Т. Л. Толстой: «Продиктовано Т. Т. 30-го Окт[ября] 1890. Ясн[ая] Пол[яна]».
Эмиль де Лавелэ (Emile de Laveleye, 1822—1892) — бельгийский буржуазный экономист и публицист, профессор политической экономии в Люттихском университете.
В письме из Аржанто (Argenteau), близ Льежа, без даты, с почтовым штемпелем: Visé, 27 октября нов. ст. 1890 г., писал Толстому (на французском языке) о посылке ему своих книг, в которых, по его мнению, изложены идеи, «могущие показаться.... справедливыми». Просил известить о получении книг.
1 В яснополянской библиотеке имеются три книги Лавелэ: 1) «Le vice légalisé et la morale», Bruxelles, Librairie C. Muquardt («Узаконенный порок и мораль»; 2) «Le luxe» («Роскошь»), 1887, Bibliothèque Gilon, Verviers; 3) «Современный социализм», перевод с французского под ред. М. А. Антоновича, изд. А. Ф. Зандрок, СПб. 1882.
2 Книга «Le luxe» содержит две статьи: «Le luxe» (стр. 11—88) и «Le droit et la morale en économie politique» («Право и мораль в политической экономии» (стр. 89—133).
* 161. В. Г. Черткову от 31 октября 1890 г.
* 162. Бернс и Ко (Burnz and Сo).
1890 г. Октября 31. Я. П.
I received your letter and book safety and thank you very much for them. The book was very welcome and I think its propagation will do much good.
I immediately wrote a small article on its contents1 and made free to join to it your [letter and sent it to a]2 very popular journal (the Week)3, from which it is reprinted in many periodicals. Although I do not quite agree with all your views, as you can see from my epilogue to the «Son[ata of] Cr[eutzer]».4 I find your work very useful and thank you again for communicating it to me.
Yours truly L. T.
Я благополучно получил ваше письмо и книгу и очень благодарен вам за них. Книга мне очень понравилась, и я думаю, что ее распространение сделает много добра.
Я тотчас написал маленькую статью об ее содержании1 и позволил себе присоединить к ней ваше [письмо и послал в]2 очень популярный журнал («Неделя»)3, из которого она перепечатана многими периодическими изданиями. Хотя я и не вполне согласен со всеми вашими взглядами, что вы можете видеть из моего послесловия к «Крейцеровой сонате»,4 я нахожу вашу работу очень полезной и еще раз благодарю вас за присылку ее.
Искренно ваш Л. Т.
Печатается по машинописной копии из архива М. Л. Оболенской. Дата копии.
Нью-йоркское издательство книг и диаграмм по фонетическому письму и стенографии Бёрнс и Ко, прислало Толстому, вместе с письмом от 7 октября нов. ст., брошюру своего издания: «Diana. A psycho-physiological essay on sexual relations for married men and women», 3 edition, revised and enlarged, Burnz and Company, New York 1887 («Диана. Психо-физиологический опыт о половых отношениях для женатых мужчин и женщин», изд. 3-е, просмотренное и дополненное). Почтовый штемпель получения письма: «Тула 9 октября 1890 г.».
Письмо было написано заведующей школой фонетического письма Элизой Бёрнс (Eliza В. Burnz). Об этом она сообщила Толстому 12 февраля181 182 1893 г. В письме от 7 октября нов. ст. 1890 г. она писала: «Со времени появления в Америке Вашего произведения «Крейцерова соната» многие говорили: «Диана проводит, объясняет и дает практическое применение теориям графа Толстого». Решаемся послать Вам брошюру, чтобы Вы могли составить свое суждение».
1 «Об отношениях между полами».
2 Вставленными в прямых скобках словами исправляем явный пропуск в копии, искажающий смысл письма.
3 Слова: (the Week) в машинописной копии находятся в конце фразы после слова periodicals, искажая содержание письма.
4 В машинописной копии: «The Kreutzer Sonata».
163. А. В. Жиркевичу.
1890 г. Ноября 2. Я. П.
Дорогой Александр Владимирович! Я был болен и теперь еще слаб, а кроме того очень занят. Больше же всего мне страшно, что вы нарочно заедете так далеко в сторону и не найдете того, что ищете. Если судьба заведет вас в нашу сторону, тогда другое дело. Я же с своей стороны всегда рад, если могу быть полезен или хоть приятен человеку, и живые отношения с людьми считаю самым важным делом.
Итак, поступайте, как вам бог на сердце положит. Я в деревне.
Желаю вам всего хорошего.
Лев Толстой.
На обороте: Ялта. Ливадийское шоссе. Дача Кикина.
Александру Владимировичу Жиркевичу.
Печатается по копии с автографа рукой А. В. Жиркевича. Автограф подарен адресатом доктору Гейдентейху в г. Вильно. Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37—38, М. 1939, стр. 420. Дата определяется пометой на копии Жиркевича о получении письма: «7 ноября 1890 г.» и записью под датой «2 ноября» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на письмо Жиркевича от 24 октября 1890 г. из Ялты, просившего разрешения заехать к Толстому.
* 164. А. М. Калмыковой.
1890 г. Ноября 5. Я. П.
Заметка ваша, дорогая Александра Михайловна, будет очень полезна и потому желаю, чтоб она б[ыла] напечатана.1 Вопросы по пунктам не совсем мне нравятся: они недостаточно раздельны и определены, чтобы их так ставить. Но не беда и так. Очень благодарю вас за ваши хлопоты по моим просьбам. Ге в Пет[ербурге], и вы, верно, уже видели его. Дай бог, чтоб он устроил и успокоил Ильину. — Брошюру Дианы я просил Машу послать вам и еще другие брошюры издания журнала Alfa того же направления.2 Хороша тоже статья в Revue de morale progressive3 «Le devoir conjugal».4 Она в Москве y сына,5 я пришлю ее вам. Дружески жму вам руку.
Любящий вас Л. Толстой.
В Диане есть многое нехорошее, я выбрал то, что по мне. б[ыло] хорошо. Письмо Борнс6 прекрасно.
На обороте: Петербург, Литейная, 60, кв. 5. Александре Михайловне Калмыковой.
Дата определяется записью в Дневнике Толстого 6 ноября (см. т. 51, стр. 101).
Ответ на два письма Калмыковой: от 29 и 30—31 октября 1890 г. В первом письме Калмыкова писала, что составила заметку о воспитании в форме письма, которую послала для напечатания в редакцию журнала «Вестник воспитания». Во втором — сообщала о согласии журнала напечатать ее заметку и просила указать литературу, существующую за границей о воспитании. Просила также выслать ей брошюру «Диана» и другие материалы «из этой области».
1 Заметка Калмыковой в журнале «Вестник воспитания» напечатана не была.
2 «Альфа» («Alfa»), ежемесячный журнал, издававшийся «Обществом морального воспитания в Вашингтоне». В яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров этого журнала за 1887 и 1888 гг.
3 «Обозрение прогрессивной морали», журнал, выходивший в Париже с 1887 г. В яснополянской библиотеке не сохранился.
4 Hans Clary, «Le devoir conjugal» — «Revue de morale progressive» 1890, août (Ганс Клари, «Супружеский долг» — «Обозрение прогрессивной морали» 1890, август).
5 Л. Л. Толстой.
6 Элиза Бёрнс, «Письмо к родителям и наставникам». См. письмо № 154 и прим. 3 к нему.
165. Н. В. Давыдову.
1890 г. Октября 31 — ноября начало. Я. П.
Податель — тесть старшины Богородиц[кого] уезда, к[оторый] судебной палатой приговорен к ссылке на поселенье. Вопрос в том, есть ли надежда облегчить его наказанье, прося Сенат, и можно ли это? Если да, то я напишу прошенье и буду просить в Пет[ер]б[урге].
Как жаль Соллогуба,1 и его друзей, и вас.
Я не тужу, что опоздал на суд.2 До другого раза. Я кстати другим занят.
Ваш Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в сборнике: «Толстой. Памятники творчества и жизни», 2, М. 1920, стр. 35. Дата определяется днем смерти Ф. Л. Соллогуба и упоминанием в письме об опоздании на суд (см. запись в Дневнике Толстого 31 октября, т. 51, стр. 98).
1 Федор Львович Соллогуб (1848—1890), художник-иллюстратор и декоратор. Соллогуб был близким другом Давыдова. Толстой имеет в виду смерть Соллогуба, последовавшую 29 октября.
2 Посещение суда Толстым было связано с его работой над романом «Воскресение». См. об этом: Н. Давыдов, «Письма Толстого к Давыдову» — «Толстой. Памятники творчества и жизни», 2, стр. 35.
166. П. А. Гайдебурову.
1890 г. Ноября 14. Я. П.
Дорогой Павел Александрович!
Я предложил Льву Павловичу Никифорову перевести по-русски роман Эдны Лайэль «Донаван», и он согласился на это и переводит или уже перевел его.1 Роман этот интересен по серьезности содержания: этический и религиозный вопрос в их взаимных отношениях. Это роман вроде Роберта Эльсмера2 и, по-моему, даже лучше его. Что перевод хорош, в этом я не сомневаюсь, потому что знаю, что Никифоров вполне владеет и тем и другим языком.
Так вот, не напечатаете ли вы роман? Когда и какие условия?
Лев Павлович и перешлет или передаст вам это письмо.
Любящий вас Л. Толстой.184
185 Печатается по публикации в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 85. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 16 ноября о событиях за 14 ноября (см. т. 51, стр. 106).
Павел Александрович Гайдебуров (1841—1893) — либеральный публицист. С 1869 г. сотрудник и один из издателей либерально-народнической газеты «Неделя», а в 1876—1893 гг. — редактор и издатель ее. С Толстым лично познакомился 27 апреля 1890 г. в Ясной Поляне. В переписке с ним был с 1882 г. Автографы писем Толстого к нему, по сообщению его сына, П. П. Гайдебурова, сгорели в его имении в Старой Руссе в конце 1917 г.
1 См. прим. 1 к письму № 115. Гайдебуров этого романа в переводе Никифорова не напечатал, объясняя свой отказ наличием у них постоянной переводчицы, перебивать работу которой он не хотел. Об этом он сообщил Толстому в письме от 7 апреля 1891 г.
2 Humphry Ward, «Robert Elsmere», 1888 (Гомфри Уорд, «Роберт Эльсмер»). В переводе Каррик под заглавием «Отщепенец» роман был напечатан в издаваемых Гайдебуровым «Книжках Недели» 1889, №№ 1—10.
167. Л. П. Никифорову.
1890 г. Ноября 14. Я. П.
Рад был получить от вас весточку, дорогой Лев Павлович. Прилагаю письмо Гайдебурову.1 Есть у меня по-английски роман норвежца Бьернсона2 — очень недурной, и интересный, и новый, а верно еще не переведенный: «In God’s way».3 Его жена читает. Когда кончит, я пришлю его вам. Я думаю, что у вас теперь есть работа. — Я не помню, чтобы ваше последнее письмо оставило во мне какое-либо другое впечатление, кроме самого хорошего. — Вы пишете, что живете очень скудно; и не знаю, жалею ли вас, или завидую вам. Главное дело, как переносят это ваши жена4 и дети?
Я рад, что Диоген5 понравился вам. —
Пока прощайте.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 85. Датируется записью в Дневнике Толстого 16 ноября о событиях за 14 ноября (см. т. 51, стр. 106).
Ответ на письмо Никифорова с почтовым штемпелем на конверте «Тверь, 12 ноября», в котором Никифоров уведомлял, что хотел бы воспользоваться предложением Толстого просить Гайдебурова о помещении в журнале «Неделя» перевода Никифорова книги Лайэль «Донован»; писал об изданной «Посредником» книге «Диоген» и сообщал о своей жизни.185
2 Бьернстьерне-Бьернсон (Björnstjerne Björnson, 1832—1910), норвежский писатель, критик и публицист, создатель норвежского национального театра.
3 «In God’s way. A novel». Translated from the norvegian by Elisabeth Carmichael, W. Heinemann, London 1890 («На божьем пути. Новелла». Перевод с норвежского Елизаветы Кармихаэль). Книга эта сохранилась в яснополянской библиотеке Толстого.
4 Екатерина Ивановна Никифорова, рожд. Засулич (ум. в 1919 г.), сестра Веры Ивановны Засулич. См. прим. 3 к письму N° 253.
5 См. прим. 2 к письму № 173.
168. А. М. Жемчужникову.
1890 г. Ноября 14. Я. П.
Очень рад был получить твое письмо, потому что всегда рад узнать и вспомнить о тебе, любезный друг Алексей Михайлович. Вчера получил твою поэму и прочел ее сначала про себя, а потом вслух — домашним.
Картина семейной жизни очень милая и описание прекрасное, но мысль поэмы для меня почти непонятна: как мысль о смерти, стоящей так уже близко от нас с тобой по нашим годам, не вызывает в тебе мыслей другого порядка? Впрочем, то хорошо, что все люди разны по своему взгляду на мир — каждый смотрит с своей особенной точки зрения. Я, разумеется, совершенно согласен на посвящение поэмы мне.1 А ведь ты ездишь в столицы мимо нас, почему же ты не заедешь?2 Мы были бы очень рады, и тебе не стоило бы большого труда. Я всегда дома. Можно поехать из Тулы, из Ясенков и из Козловки. Если из Козловки, то надо написать или телеграфировать, чтоб выслать, потому что там нет лошадей. Надеюсь, до свиданья.
Любящий тебя Л. Толстой.
Печатается по публикации в журнале «Русская мысль» 1913, 1, стр. 128 (вторая пагинация). Датируется записью в Дневнике Толстого 16 ноября о событиях за 14 ноября (см. т. 51, стр. 106).
Алексей Михайлович Жемчужников (1821—1908) — поэт, с 1900 г. почетный академик по разряду изящной словесности; один из соавторов, вместе с А. К. Толстым и своими двумя братьями Владимиром и Александром, шуточных и сатирических произведений под общим псевдонимом «Козьма Петрович Прутков».186
187 С Толстым Жемчужников познакомился зимой 1855—1856 гг. в Петербурге и был одним из немногих, с кем Толстой был на «ты».
Ответ на письмо Жемчужникова, ошибочно, судя по почтовым штемпелям, помеченное «5 октября», в котором Жемчужников сообщал, что написал поэму «Загробная тоска», с посвящением в стихах Толстому, просил прочитать ее и разрешить напечатать с «посвящением».
1 Поэма вместе с посвящением была напечатана в «Вестнике Европы» 1891, 1, стр. 162—171.
2 Жемчужников жил в то время в своем имении Павловка, Елецкого уезда Орловской губ. В 1890 г. он в Ясную Поляну не заезжал.
169. В. Г. Черткову от 14 ноября 1890 г.
170. Т. Л. Толстой.
1890 г. Ноября 16. Я. П.
Мы все живы здоровы, тебя поминаем. Что ты? Не верь докторам. Вылечит только время, сама натура и здоровый образ жизни. Вылечить доктора не могут, а повредить очень могут.
Вот что сделай мне, голубушка: достань критики духовные на «В чем моя вера» — Орфано,1 Никанора, если об этом он писал,2 и привези мне. Видишь ли, мне нужно точно цитировать, как духовные писатели отделываются от предписания Х[риста] о непрот[ивлении] злу. Я потому объясняю, чтобы ты не привезла того, ч[то] мне не нужно. Да и вообще покупать эти книги жалко, а постарайся так достать. Можно достать и в Музее.3
Нынче была телеграмма от С[офьи] А[лексеевны]4, ч[то] она хорошо доехала и там всё благополучно. Л. Т.
Беседы Антония у меня есть.5
Целую Лизу и ее детей.6
На обороте: Москва, Скатертный пер., Поварская, д. Колокольцевой. Княгине Л. В. Оболенской, передать Тане.
Впервые опубликовано в журнале «Современные записки», Париж 1928, XXXVI, стр. 198. Дата определяется почтовым штемпелем.
Татьяна Львовна Толстая (1864—1950) — старшая дочь Толстого, с 1899 г. Сухотина. См. т. 83, стр. 83—84.
Выписываемые в этом письме книги нужны были Толстому для работы над второй главой книги «Царство божие внутри вас».187
188 1 А. Г. Орфано, «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека (Критический разбор книги гр. Л. Н. Толстого «В чем моя вера?»)», второе исправленное и дополненное издание, М. 1890.
2 Никанор (Александр Иванович Бровкович, 1827—1890), архиепископ и церковный писатель, реакционер. Его резкие выступления против Толстого собраны в отдельную книгу: «Против графа Льва Толстого. Восемь бесед», Одесса 1891. Некоторых вопросов, затронутых Толстым в статье «В чем моя вера?», Никанор касается в беседе «О том, что ересеучение графа Льва Толстого разрушает самые основы не только православно-христианской веры, но и всякой религии» — сборник «Беседы и поучения», IV, Одесса 1887, стр. 482—498.
3 Публичный Румянцевский музей в Москве, ныне Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина.
4 Софья Алексеевна Философова (1847—1901), теща второго сына Толстого, Ильи Львовича, приезжавшая из своего имения Паники в Ясную Поляну.
5 Антоний (Алексей Павлович Храповицкий, р. 1864), в то время архимандрит, церковный писатель, реакционер. В яснополянской библиотеке сохранились его книги о Толстом: «Беседы о нравственном превосходстве православного понимания евангелия сравнительно с учением Л. Толстого» (оттиск из «Церковного вестника», 1888) и «Беседы о православном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого» (изд. ред. «Церковного вестника», СПб. 1888).
6 Елизавета Валерьяновна Оболенская (1852—1935), дочь сестры Толстого Марии Николаевны.
171. Е. А. Покровскому. Черновое.
1890 г. Ноября 17. Я. П.
Очень благодарен вам, уважаемый Егор Арсеньевич, за присылку журнала.1 Он мне очень понравился, насколько я успел познакомиться с ним. Жена и дочери все читают и тоже благодарят вас за него. У меня много брошюр по тому же предмету, как и брошюра Борнс. Я пришлю их вам на-днях.2 Очень жалею, что вы не находите удобным печатание письма. Оно может принести пользу.
Впервые опубликовано в настоящем издании, т. 27, стр. 709. Датируется по содержанию и записи в Дневнике Толстого 18 ноября (см. т. 51, стр. 106).
Егор Арсеньевич Покровский — детский врач, лечивший в семье Толстого; редактор журнала «Вестник воспитания», автор брошюры «Об уходе за малыми детьми», М. 1889, в которую Толстой написал вставку «О соске» (см. т. 27).188
189 Ответ на письмо Покровского от 11 ноября, в котором Покровский благодарил Толстого за присылку письма Э. Бёрнс и сообщал о получении от одной «очень умной матери К[алмыковой]» заметки «об извращении плотской любви в отроческом и юношеском возрасте».
1 «Вестник воспитания».
2 Из письма Покровского от 18 января 1891 г. видно, что Толстой послал ему несколько брошюр издания «Общества морального воспитания в Вашингтоне».
172. Г. А. Русанову.
1890 г. Ноября 17. Я. П.
Получил, как всегда с большой радостью, ваше письмо, дорогой Гаврило Андреич: вы всё так же живете духом; а жизнь плотская не наша.
Ваш план приехать к нам и радует, и пугает меня — пугает, как бы поездка не повредила вам; а поездка бесполезная. Предоставьте это дело решить вашей жене; она, верно, вас любит не меньше, чем вы сами себя, и, вероятно, более благоразумною любовью.
Я здоров, по крайней мере вполне доволен своим здоровьем; нет болей, кот[орые] бы отвлекали меня от занятий, и есть возможность работать, писать. Пишу я о противлении злу, о церкви и воинской повинности1 (не говорите этого), и чувствую себя обязанным высказать то, что думаю и чувствую об этом. — Давно уже я бьюсь над этим и не могу кончить, и не могу оторваться и отдаться другим, манящим меня художеств[енным] планам.
Но стараюсь не делать планов, а ждать каждый день смерти и радоваться тому, что сделал нынешним днем, и не тому, что сделал, а тому, что провел день более или менее так, как должно. — Всегда любил, почти не понимая, 28, 29, 30 ст. Мф. XI, и что старше делаюсь, то больше люблю и, кажется, понимаю. Что нами хочет делать бог мы не можем знать, как не может знать лошадь запряженная, куда, зачем и что она везет, но если она кротка и смирна и везет, то она знает, что она работает хозяину, и ей хорошо. Иго мое благо и бремя мое легко.
Прощайте, дорогой друг, извещайте меня почаще о себе, и я буду писать вам. Любящий вас
Л. Толстой.189
190 Впервые опубликовано (с ошибками) в журнале «Вестник Европы» 1915, 3, стр. 19. Дата определяется почтовым штемпелем.
Ответ на несохранившееся письмо Русанова.
1 Статья, впоследствии получившая заглавие «Царство божие внутри вас».
* 173. П. Ж. Бирюкову.
1890 г. Ноября 17. Я. П.
Спасибо, милый друг, за письмо. Вы так лаконичны всегда, что я уж особенно ценю такой кругом исписанный листик. — Хорошо вы сделали, что побывали у всех тех, [у] кого побывали. И им и вам хорошо. —
О Пифагоре ничего не знаю и не думал, но, кажется, что хорошая может выдти книга.1 Вчера прочел в «Неделе», побранили Диогена и напрасно, и не напрасно за плевок в бороду,2 а от Никифорова получил письмо, он очень хвалит. Вы не смущайтесь. Как мне приятно было читать то, что вы пишете о том, как много лжи в нас, и о том, как трудно и как нужно освободиться от заботы о мнении людском. Какая у меня на эту тему есть повесть!3 Да не смею теперь ничем заниматься, кроме как тем, что пишу теперь о противл[ении] злу, о церкви и о воинской общей повинности. Всё это в связи и всё это очень важно. Я чувствую, что обязан не написать (это от бога зависит), а писать это.
Где Ругин? Удивительный, сильный и чистый душою Ругин? Он пошел в Москву, кажется, в сентябре, и с тех пор я ничего не знаю про него. —
Я вас очень живо почувствовал по последнему письму и почувствовал прежнюю связь с вами, к[оторая] как-то ослабла как будто. —
Пишите жене. Очень хотелось бы повидаться. Маше тоже очень по сердцу было ваше письмо. Целуйте всех наших друзей в Ржевске.
Любящий вас Л. Толстой.
Два небольших отрывка впервые напечатаны в «Толстовском ежегоднике» 1913, в отделе «Письма Л. Н. Толстого», стр. 122, и в Б, III, стр. 177. Датируется записью в Дневнике Толстого 18 ноября (см. т. 51, стр. 106).
Ответ на несохранившееся письмо П. И. Бирюкова.190
191 1 Пифагор (около 582 — после 507 до н. э.), греческий философ и математик. Книгу о нем Бирюков не написал.
2 Толстой имеет в виду изданную «Посредником» книгу П. И. Бирюкова (без фамилии автора) «Греческий мудрец Диоген», М. 1891. В отделе «Новые книги» газеты «Неделя» 1890, № 45 от 11 ноября, столб. 1441—1443, была помещена рецензия, отрицательно отзывавшаяся о книге. Комментируемое в письме место вызвано следующими словами рецензии: «Жаль, что составитель книжки, видимо добросовестно работавший над нею, не исключил из преданий о Диогене те, которые только компрометируют учение этого мудреца. Например, что достойного подражания в следующем анекдоте: пришел Диоген в гости к богачу, захотел плюнуть и, видя вокруг всё чистые углы и роскошь, плюнул в бороду хозяину: не нашел, дескать, более грязного места?»
3 Повесть «Отец Сергий», начатая 6 июня 1890 г. Над этой повестью Толстой работал лето и осень 1890 г. и с перерывами в 1891 и 1898 гг. Однако она осталась неотделанной. Впервые напечатана в «Посмертных художественных произведениях», под ред. В. Г. Черткова, М. 1911, т. II, стр. 5—48. См. т. 31.
174. Ф. Б. Гецу.
1890 г. Ноября 21. Я. П.
Очень сожалею, любезный Файвель Бенцелович, что запрещение пометало протесту быть напечатанным. Может быть, он дождется лучших времен и в то время еще разрастется подписями.
Очень вам благодарен за присланные мне книги, я прочел их и много узнал из них. Мне очень радостно было узнать из них, что этическое учение евреев гораздо выше, чем то, кот[орое] я предполагал. Христианское учение устанавливает равенство и братство всех людей, и потому предположение о том, что какие-нибудь люди могут быть обижены в самых важных людских свойствах, в сознании нравственного идеала, есть нехристианское понятие. И потому чем выше понимаешь нравственное учение других людей или народов, тем это радостнее для христианина.
Очень вам благодарен за эти книги и теперь возвращаю их.
Желаю вам всего хорошего, а главное освобождения, или, скорее, превозможения сознания обиды, кот[орую] терпит ваш народ. Это сознание должно быть очень мучительно и отравляет жизнь. Я думаю, что можно превозмочь это чувство — прощением и любовью к врагам, и от всей души желаю вам этого.
Любящий вас Л. Толстой.191
192 Печатается по публикации в журнале «Летопись» 1916, 3, стр. 221—222. Впервые почти полностью с датой 22 ноября 1890 г. опубликовано в книге: Ф. Г[ец], «Слово подсудимому!», СПб. 1891, стр. XIII. Датируется записью в Дневнике Толстого 21 ноября (см. т. 51, стр. 108).
Ответ на письмо Геца из Петербурга от 15 ноября, в котором Гец извещал о запрещении министром внутренних дел печатать протест, подписанный и Толстым, против гонения на евреев. См. прим. к письму № 34.
175. В. М. Грибовскому.
1890 г. Ноября 21. Я. П.
Дорогой Вячеслав Михайлович,
Мысли издания народного журнала нельзя не сочувствовать, но, во 1-х, я очень занят теперь другими делами, а времени до смерти уже мало, во 2-х, главное, издание хорошего по направлению народного журнала у нас будет не изданием, а танцеванием на канате, конец которого может быть только двух родов — оба печальные — компромиссы с совестью или запрещение.
Журнал нужен такой, который просвещал бы народ, а правительство, сидящее над литературой, знает, что просвещение народное губительно для него, и очень тонко видит и знает, что просвещает, т. е. что ему вредно, и всё это запрещает, делая вид, что оно озабочено просвещением: это самый страшный обман, и надо не попадаться на него и разрушать его.
Вот написать краткий критический обзор священного писания, что вы делали — хорошее дело. Картину Ге я считаю картиной, составляющей эпоху в живописи.
Прощайте. Желаю вам всего хорошего — главное спокойно плодотворной работы, такой, которой бы никто не мешал и не мог помешать — это работа над собой. Она же и сама бывает плодотворная в смысле воздействия на других: так мир устроен.
Любящий вас.
Печатается по машинописной копии, с ошибочной датой «1903?», из AЧ. Впервые опубликовано в газете «Слово» 1905, № 31 от 2 января, стр. 5. Датируется записью в Дневнике Толстого 21 ноября (см. т. 51, стр. 108).
Вячеслав Михайлович Грибовский (1867—1925 или 1928) — в то время студент последнего курса юридического факультета Петербургского192 193 университета. С 1910 г. профессор государственного права. См. т. 63, стр. 260—261.
Ответ на письмо Грибовского от 14 ноября 1890 г. из Петербурга, в котором Грибовский писал о намерении издавать газету «для низших классов и для рабочих, с известным направлением» и просил «совета и указания» Толстого; помимо этого сообщал свое впечатление от картины H. Н. Ге «Что есть истина?».
* 176. Е. М. Ещенко.
1890 г. Ноября 21. Я. П.
Дорогой друг и брат
Емельян Максимович.1
Я думаю, что ваше желанье покупать землю нехорошее.
Не хорошо, во-первых, то, чтобы покупать землю, — пользоваться тем, что есть такой закон, что можно покупать и себе отбирать то, что не должно никому принадлежать, как вода и воздух; это почти так же, я полагаю, грешно теперь, как 30 лет тому назад было грешно покупать людей.
Во-вторых, думаю, что это не хорошо еще и потому, что христианину незачем изменять свою жизнь во внешних делах: для христианина всякая жизнь должна быть хороша; и если он может хотеть изменить что, так только свою и ближних своих духовную жизнь. А полагать, что от перемены внешней жизни — больше земли, лучше земля — переменится внутренняя истинная жизнь — большая ошибка — грех.
Я недавно думал о том, что дела христианина творить волю Отца, но в чем воля Отца? Как узнать, чтоб не ошибаться? А то начнешь думать, что воля Отца в том, чтоб я проповедывал, или в том, чтоб жил так или этак; в том, чтобы жил с семьей или без семьи? И если начнешь так себя спрашивать, никогда не найдешь, в чем воля Отца, и придешь в сомнение и смущение: зачем велено делать волю Отца, а не показано в чём она?
И вот об этом я думаю так: что воля Отца нам показана ясно, но мы не там ищем ее, где она показана нам. Мы всё думаем, что воля Отца может быть во внешних делах, как то, чтобы Аврааму итти в чужую землю и тому подобное, а воля Отца только в том, чтобы мы в том ярме, в которое мы запряжены, были кротки и смиренны и, не спрашивая куда, зачем,193 194 что везем, везли бы, пока есть сила, останавливались бы, когда велят, и опять везли бы, когда велят, и поворачивали бы, куда велят, и не спрашивали бы зачем и куда. — «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем».
Будь кроток и смирен сердцем, будь доволен всем, согласен на всякое положение, и исполнишь волю Отца. Так что волю Отца чтоб исполнять, надо узнать не что делать, а надо узнать как делать то, что приходится делать.
Вот что я думаю для себя. Если эти мысли вам пригодятся, буду рад. Целую вас и наших друзей, через которых пишу.
Любящий вас.
Печатается по машинописной копии из AЧ с датой «1890 г.». Большой отрывок впервые опубликован в сборнике «О смысле жизни. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch, Hants, 1903, стр. 22—23. Датируется записью в Дневнике Толстого 21 ноября (см. т. 51, стр. 108).
Емельян Максимович Ещенко (р. 1848) — крестьянин Острогожского уезда Воронежской губ., бывший сектант из хлыстов, оставивший секту в конце 1880-х гг.
Ответ на несохранившееся письмо Ещенко. Судя по последующим письмам, он спрашивал совета о покупке земли в Оренбургской губ. для переселения туда своей семьи.
1 В машинописной копии AЧ: Иванович.
Ещенко ответил 2 января 1891 г.
177. В. Г. Черткову от 21 ноября 1890 г.
178—179. С. А. Толстой от 22 и 23 ноября 1890 г.
* 180. Л. Л. Толстому.
1890 г. Ноября 30. Я. П.
Не отвечал тебе тотчас, милый друг, оттого, что ездил в Крапивну,1 а потом суета сделалась приездом и нездоровий.2 Мама немножко нездорова, и Миша3 очень — в роде тифа, и Борель4 тоже; да и самому 2-й день нездоровится, голова болит. Статью не надо печатать и не надо также писать. Если194 195 неприятны бестолковые и ложные суждения, то лучшее средство, чтобы их было как можно меньше, ничего не отвечать, как я всегда и делал и считаю даже нужным делать. Кроме того, отвечать значит итти против принятой мною издавна системы.5 Теперь повести: я на месте Цертелева6 тоже не напечатал бы ее.7 Главное, два недостатка: герой неинтересен, несимпатичен, а автор относится к нему с симпатией, а другое — неприятно действует речь студента, и его поучение ненатурально. — Несимпатичен герой тем, что он барчук и не видно, во имя чего он старается над собой, как будто только для себя. И оттого и его негодование слабо и не захватывает читателя.
У тебя, я думаю, есть то, что называют талант и что очень обыкновенно и не ценно, т. е. способность видеть, замечать и передавать, но до сих пор в этих двух рассказах8 не видно еще потребности внутренней, задушевной высказаться, или ты не находишь искреннюю, задушевную форму этого высказывания.
В обоих рассказах ты берешься за сверхсильное, сверхвозрастное, за слишком крупное. Я не буду отстаивать своего мнения, я стараюсь только как умею высказать то, что думаю. Попытайся взять менее широкий, видный сюжет и постарайся разработать его в глубину, где бы выразилось больше чувства, простого, детского, юношеского, пережитого. Пишу, чтобы не откладывать, а у меня голова болит. В другой раз яснее бы выразил. Да еще поговорим, живы будем.
Целую тебя.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии подтверждается упоминанием этого письма под датой «30 ноября» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на несохранившееся письмо Л. Л. Толстого.
1 Толстой ездил в Крапивну, где 27 ноября состоялась сессия Тульского окружного суда по делу четырех крестьян деревни Ясная Поляна, убивших в пьяном виде своего односельчанина — конокрада Гавриила Болхина. Цель поездки была — присутствием своим смягчить приговор суда, что и удалось: трех осужденных приговорили к поселению вместо угрожавшей им каторги, а одного оправдали.
2 Так в копии.
3 Михаил Львович Толстой (1879—1944), шестой сын Толстого.
4 M-r Borel, француз, гувернер Андрея и Михаила Львовичей.
5 Речь идет о статье Л. Л. Толстого с возражениями против воспоминаний195 196 однокурсника Толстого по Казанскому университету В. Н. На
зарьева, опубликованных в «Историческом вестнике» 1890, 11, под заглавием «Жизнь и люди былого времени». См. т. 51, стр. 109. Статья Л. Л. Толстого в печати не появлялась
6 Дмитрий Николаевич Цертелев (1852—1911), писатель и философ-идеалист, в 1890—1892 гг. редактор «Русского обозрения».
7 Рассказ Л. Л. Толстого «Любовь» напечатан под псевдонимом «Л. Львов» в «Книжках Недели» 1891, март, стр. 107—132.
8 Второй рассказ Л. Л. Толстого — «Монте-Кристо» напечатан в детском журнале «Родник» 1891, 4, стр. 337—348.
181. В. Г. Черткову от 30 ноября 1890 г.
* 182. А. В. Алехину.
1890 г. Декабря 2. Я. П.
Думал и думаю над вашим письмом и очень хотел бы послужить вам, но до сих пор не пришел ни к какому решительному плану. Скажу всё, что думаю.
Объективное изложение самое невыгодное. Оно избирается большей частью людьми, которым нужно скрывать; вам же, напротив, нужно выворотить нутро. Чем искреннее, задушевнее {обыкновенно искренность приравнивают с самоосуждением; не впадайте в эту ошибку: искренно только вполне, когда себя и ругаешь, и осуждаешь, и одобряешь), тем лучше — нужнее людям. Первая форма — исповеди, самой задушевной — наилучшая; но недостаток такой формы, часто впадение в рефлексию, копание в душе, и оттого холодность, отвлеченность, неинтересность. Я думаю, надо руководящей нитью всего рассказа взять свою внутреннюю душевную жизнь — свой рост, но описывать его образами, событиями самыми простыми, обычными, хоть в форме дневника, в котором останавливаться на том, что привлечет внимание. Так себе воображаю: 1 февраля. Своя внутренняя душевная одинокая работа и краткое упоминание о товарищах, работах. 2, 3, 4, 5 февр[аля] ничего особенного — всё то же. 6-го. Приезд NN или отъезд: его характеристика, отношение с ним. 7-го. Работа на гумне, со скотом, отношение к ней мое, моих товарищей. 8-го. Приход крестьян, разговоры. 9-го. Разговор с товарищами, столкновение. Внутренняя одинокая196 197 работа. Пища, лишения, радости, дети; опять внутренняя работа.
Это, боюсь, неясно, но, главное, желал бы, чтобы был описан и тот материал жизни, над которой приходилось работать, и сама работа. Главное — работа внутренняя, душевная, и чтобы показана была не оконченная работа, а процесс работы на самом деле. — Задаваться не надо никакой темой общей, напр[имер], хоть той, что общинная жизнь желательна или нежелательна, а только высказывать свое отношение к той жизни, которая велась, и различные фазисы этого отношения. Не бояться подробностей, не бояться оскорбить товарищей: писать, что чувствуешь, и давать характеристики самые подробные, опять не общие, а из течения жизни. Писать с мыслью о том, что прочтется это после моей смерти и произведенное впечатление на мне не отразится, а пишу только для служения богу, для того, чтобы сказать братьям то, что мне удалось узнать, и чего они не знают, и что им нужно знать.
Не жалеть своего труда, писать, как пишется, длинно и потом исправлять и, главное — сокращать. Золото в деле писания получается, по моему опыту, только просеиванием.
Писать таким языком (если возможно, это очень желательно), чтобы крестьянин с аттестатом грамотности мог понять.
Подумаю еще. Если что лучше вздумаю, напишу. И вы пишите.
Любящий вас Л. Т.
Напишите, пожалуйста, про себя, как дошли.1 Я съездил хорошо и успешно. Одного совсем оправдали, а трем очень смягчили.2
Печатается по машинописной копии из архива М. Л. Оболенской. Датируется записью в Дневнике Толстого 3 декабря о событиях за 2 декабря (см. т. 51, стр. 111).
Аркадий Васильевич Алехин (1854—1918). См. о нем в т. 64, стр. 238.
Ответ на несохранившееся письмо Алехина, в котором, судя по записи в Дневнике Толстого 7 ноября, Алехин писал о своем намерении составить «декларацию своих религиозных основ жизни» (см. т. 51, стр. 102).
1 В конце ноября 1890 г. Алехин был в Ясной Поляне, откуда ушел в Курск.
2 См. прим. 1 к письму № 180.
183. H. C. Лескову.
1890 г. Декабря 3. Я. П.
Получил ваше я последнее письмо, дорогой Николай Семенович, и книжку Обозр[ения] с вашей повестью.1 Я начал читать, и2 мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка, но... потом выступил ваш особенный недостаток, от кот[орого] так легко казалось бы исправиться и кот[орый] есть само по себе качество, а не недостаток — exubérance3 образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve4 и тон удивительны. — Сказка все-таки очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше.
Намерение ваше приехать к нам с Гольцевым, кроме большого удовольствия, во всякое время нам ничего доставить не может.
Ге был еще у нас, когда пришло ваше последнее письмо, и мы вместе с ним смеялись вашему описанию. Но тут кроме смеха дело очень интересное и знаменательное. Когда увидимся, поговорим.
Так до свиданья.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано (с ошибками) в газете «Русские ведомости» 1911, № 104 от 7 мая, стр. 3. Датируется записью в Дневнике Толстого 3 декабря (см. т. 51, стр. 111). Датировано Лесковым на автографе 2-м декабря.
Николай Семенович Лесков (1831—1895) — писатель. Находился в дружественных отношениях с Толстым.
О взаимоотношении Толстого и Лескова см. Н. Гудзий, «Толстой и Лесков» — «Искусство» 1928, 1—2; «Письма Н. С. Лескова», под редакцией и с вступительной заметкой С. П. Шестерикова — «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 60—189; С. П. Шестериков, «Письмо Л. Н. Толстого к Н. С. Лескову» — «Толстой и о Толстом», IV, М. 1928, стр. 11—13; H. H. Апостолов, «Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков» — в книге «Лев Толстой и его спутники», М. 1928, стр. 218—225; П. Сергеенко, «Л. Толстой и Н. Лесков» — «Русские ведомости» 1911, № 104 от 7 мая, стр. 2—3; А. И. Фаресов, «Против течений. H. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем», СПб. 1904, стр. 69, 70—71.
Письмо Лескова, на которое отвечает Толстой, а также и все письма его к Толстому за 1890 г. не сохранились.198
199 1 H. С. Лесков, «Час воли божией» — «Русское обозрение» 1890, 6, ноябрь, стр. 115—140. Сюжет этого рассказа был сообщен Лескову Толстым. См. А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстото», I, М. 1922, стр. 113.
2 Зачеркнуто: пришел в восторг.
3 [избыток, излишество]
4 [жар, восторг]
184. H. Н. Страхову.
1890 г. Декабря 3. Я. П.
Спасибо вам, дорогой Николай Николаевич, за хлопоты по моим делам,1 я не понял только, что значат слова Семенова:2 «всё будет сделано». Можно ли написать Богомольцу, чтоб он ехал в Петербург? Напишите, пожалуйста, тотчас же только ответ на этот вопрос.3 Книгу вашу4 получил и прочел не только предисловие, но и многие статьи: они интересны тем, что по ним застаешь юность нигилизма; еще нет у него внушающих седин. — Что с Соловьевым ваша полемика кончилась, очень радуюсь за вас и еще больше за то, что он поймал вас и вы осрамлены.5 Я для себя желаю или, по крайней мере, хочу желать унижения: «горе вам, если хвалят вас и радуйтесь, если ругают...» Ведь это не шутка, не преувеличение, а истинная правда. Большая для души от этого польза, а от хвалы вред. Для себя желаю, потому и для вас также. Еще больше радуюсь, что статья ваша подвигается. Coleredg’a посылаю вам с Верочкой.6 «Aids to reflection»7 сначала понравились мне точностью выражений, а потом я увидал, что точность, ясность выражения, а не содержание — преобладающая забота, и оттолкнуло меня.
Я немножко пишу, но без большой охоты; но живу радостно.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 418—419. Датируется записью в Дневнике Толстого 3 декабря (см. т. 51, стр. 111).
Ответ на письмо H. Н. Страхова, оставшееся неизвестным.
1 См. письмо № 154.
2 Повидимому, Николай Петрович Семенов (1823—1904), сенатор. Н. П. Семенов был близко знаком с H. Н. Страховым.199
200 3 По делу А. М. и С. Н. Богомолец (см. письмо № 154) Страхов писал Толстому лишь 2 января 1891 г. См. ПС, стр. 421.
4 H. Н. Страхов, «Из истории литературного нигилизма 1861—1865. Письма Н. Косицы. Заметки летописца и пр.», СПб. 1890. Сохранилась в яснополянской библиотеке.
5 См. статьи В. С. Соловьева: «Счастливые мысли H. Н. Страхова. Письмо в редакцию» — «Вестник Европы» 1890, 11, стр. 448—454, и «Немецкий подлинник и русский список» — «Вестник Европы» 1890, 12, стр. 707—736.
6 Вера Александровна Кузминская (р. 1871), племянница С. А. Толстой.
7 См. прим. 4 к письму № 157.
Ответ H. Н. Страхова из Петербурга от 2 января 1891 г. опубликован в ПС, стр. 419—421.
185. В. Г. Черткову от 3 декабря 1890 г.
* 186. А. Н. Дунаеву.
1890 г. Декабря 4—9. Я. П.
Дорогой Александр Никифорович!
Письмо это передаст вам самарский каретник Валерьян Кононович Панов. — Это человек, самобытно дошедший до понимания Христова христианства. Ему радостно будет повидаться и с вами, и с Иван Петровичем Брашниным,1 кот[орому] передайте мою любовь. —
Любящий вас Л. Толстой.
Мы живем по-старому; я понемногу работаю — пишу; вас попрежнему понимаем и любим.
На конверте: Москва. На Ильинке Торговый банк. Александру Никифоровичу Дунаеву.
Дата определяется сопоставлением записи в Дневнике Толстого 15 декабря 1890 г., где, вспоминая происшедшее между 4 и 15 декабря, он отмечает, что самарский каретник Панов был раньше Анат. С. Буткевича и его жены (т. 51, стр. 111), и записи в дневнике С. А. Толстой от 10 декабря о посещении Ясной Поляны Анат. С. Буткевичем и его женою утром того же дня (ДСАТ, I, стр. 151).
1 Иван Петрович Брашнин (1826—1898), московский купец, знакомый Толстого, сочувствовавший его взглядам.
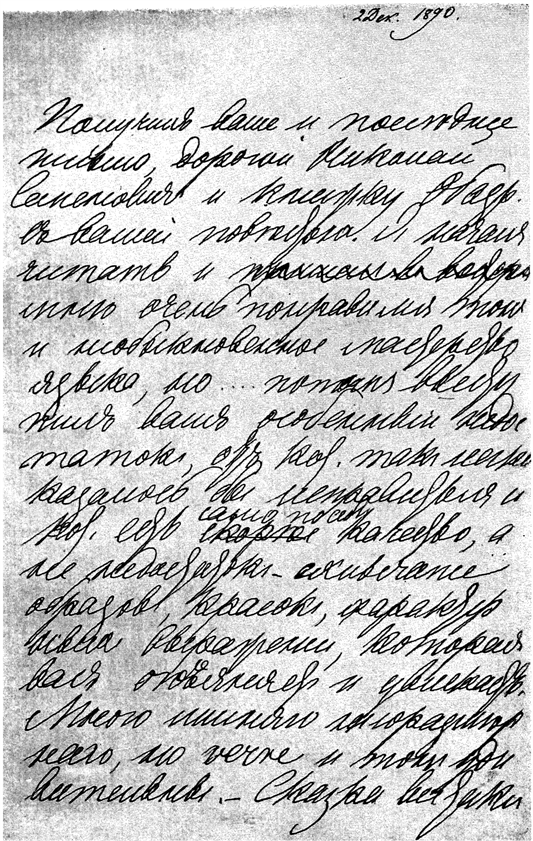
Письмо Н. С. Лескову от 3 декабря 1890 г.
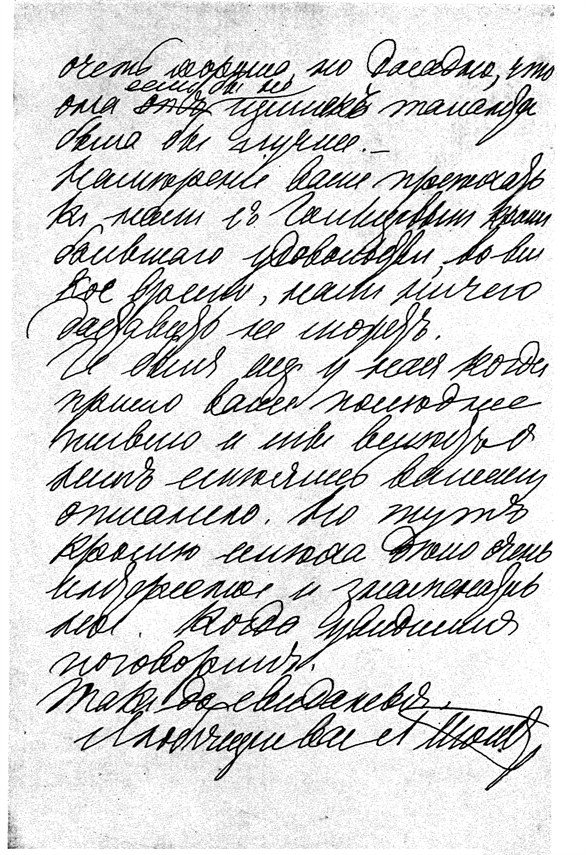
187. И. Б. Файнерману.
1890 г. Декабря 12. Я. П.
Очень рад был получить известие о вас, дорогой Исаак. Я еще прежде вашего письма знал о вас от Аркадия Алехина, к[оторый] заходил ко мне, проходо[м] в Курск и Харьков.
Вы слишком строги к вашему прошедшему опыту, или не совсем точно определяете то, что оказалось ошибкой. Принципы (разумея под этим словом то, что должно руководить всей жизнью) не виноваты ни в чем, и без принципов жить дурно. Ошибка только в том, что в принципы возводится то, что не может быть принципом — как крепко париться в бане и т. п. Принципом даже не может быть то, чтобы работать хлебную работу, как говорит Бондарев.1
Принцип наш один общий, основной — любовь, не словом только и языком, а делом и истиною, т. е. тратою, жертвою своей жизни для бога и ближнего. Из этого общего принципа — частный принцип — смирение, кротость, непротивление злу. Последствие этого частного принципа, по всем вероятиям (я говорю, по всем вероятиям, а не всегда, п[отому] ч[то] может же быть человек посажен в тюрьму или подобное этому), будет земельный, ремесленный или фабричный даже, но только во всяком случае тот труд, на кот[орый] менее всего конкурентов и вознаграждение за к[оторый] самое малое. Из всех сфер, где конкуренция велика, человек, не на словах, а на деле держащийся учения Х[риста], будет всегда выжат и невольно очутится среди рабочих. Так что рабочее положение христианина есть последствие приложения принципа, а не принцип; и если люди возьмут за основной принцип то, чтобы быть рабочим, не исполнив того, что приводит к этому, то очевидно, что выйдет путаница.
Вот что я думаю по случаю вашего письма, хотя вполне понимаю то, что вы в нем говорите, и вполне ему сочувствую.
У меня были Буткевич на-днях, Анат[олий] с женой и Андрей, и я им прочел ваше письмо, и им понравилось. Они, Анат[олий] с женой, жалели, что не знали вашего адреса в Полтаве, чтобы повидать вас проездом. Они теперь в Русанове.2
Грисбаха3 я вам не посылаю, но Тишендорфа,4 в к[отором] есть все варианты Грисбаха. Посылаю же Тиш[ендорфа], а не Грисб[аха], п[отому] ч[то] Тиш[ендорф] мой, а тот чужой. —201
202 Не увлекайтесь вы этими вариантами. Я это испытал, это скользкий путь. Смысл каждого места — во всем Евангелии, и кто не может понять смысла отдельного места сообразно всему духу его, того ничем не убедить. — Помогай вам бог. Пишите мне.
Л. Толстой.
Печатается по машинописной копии из AЧ с датой «1891 г. (?)». Впервые полностью опубликовано с датой «Март 1891 г.» в газете «Елисаветградские новости» 1904, № 82 от 12 февраля, стр. 2. Дата определяется следующими данными: почтовым штемпелем отправления «Полтава, 5 февраля 1891 г.» на конверте ответного письма Файнермана; первыми словами этого ответного письма о том, что настоящее письмо Толстого и посылка пролежали полтора месяца на почте и Файнерман получил их только накануне; и упоминанием под датой «12 декабря» об этом письме в Списке М. Л. Толстой.
Исаак Борисович Файнерман (1863—1925) — в то время разделявший взгляды Толстого. В 1889—1891 гг. жил в Елизаветграде и Полтаве, где занимался столярным ремеслом, а также работал в основанной им земледельческой общине в Глодоссах; позднее литератор, писавший под псевдонимом Тенеромо. См. т. 63, стр. 412—413.
Ответ на несохранившееся письмо Файнермана.
1 Тимофей Михаилович Бондарев (1820—1898), крестьянин, автор книги «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство». См. т. 63, стр. 277—278.
2 Село Крапивенского уезда Тульской губ.
3 Толстой имеет в виду книгу Иогана-Якоба Гризбаха (I. J. Griesbach, 1745—1812) «Novum testamentum graece» («Новый завет по-гречески»). Этой книгой Толстой пользовался в работе над «Соединением, переводом и исследованием четырех евангелий».
4 Книга Константина фон Тишендорфа (K. von Tischendorf, 1845—1874) «Novum testamentum graece et latine» («Новый завет по-гречески и по-латыни»). Толстой ею также пользовался в работе над евангелиями.
188. В. Г. Черткову от 12 декабря 1890 г.
189. В. И. Алексееву.
1890 г. Декабря 13. Я. П.
Спасибо, что написали, дорогой Василий Иванович. Радуюсь вашему счастью и живу с вами. Помогай вам бог. — По вашим письмам не пойму вашу жену, и радуюсь мысли узнать ее и полюбить.202
203 Вот работа, к[оторую] я предложу ей: есть — вы знаете, такой писатель, Метью Арнольд, он написал «Critical essays»1 или подобное этому заглавию — два тома Таухница;2 я их читал, это ряд критических статей о малоизвестных писателях и статья о том, что есть критика.3 Это замечательно умно и хорошо — полезно, и я уверен, что помещу это в журнале каком-нибудь. Целую вас. Л. Толстой.
На обороте: Полтава, Александровская улица, д. Кочанова. Василию Ивановичу Алексееву.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 317. Дата определяется почтовым штемпелем отправления: «Тула, 14 декабря 1890 г.» и упоминанием этого письма под датой «13 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на несохранившееся письмо Алексеева.
1 М. Арнольд, «Essays in criticism», сборник критических статей в двух частях (изд. Ch. В. Tauchnitz, 1865 и 1888).
2 Христиан-Бернгард фон Таухниц (Christian Bernhard von Tauchnitz, 1816—1895), учредитель издательской фирмы в Лейпциге, известной своим изданием английских авторов.
3 «The function of criticism at the present time» (сокращенный русский перевод: Матью Арнольд, «Задачи современной критики», изд. «Посредник», М. 1902).
190. О. А. Баршевой.
1890 г. Декабря 13. Я. П.
Продолжаю Машино письмо. Особенно рад был получить известие о вас, Ольга Алексеевна, потому что по последнему известию знал, что у вас лихорадка, и боялся за вас. Как хорошо вы живете! Мне представляется ваше житье чем-то баснословным, а оказывается вот уже сколько времени прожили. Ha-днях был у [нас] Рахманов. Недели две тому назад Алехин, идущий пешком без денег и без шубы в эти страшные морозы из Тверской губернии через Курск в Харьков. Совсем без денег — радость. Тут же на-днях был Буткевич с женой, которые едут из Елисаветграда к брату под Крапивной. Все живут как люди, только я живу не как люди, а как скверно. Иногда скучаю этим, но браню себя за это; не надо скучать, а лучше жить. Всё стараюсь писать, да плохо пишется. Только бы помог бог не делать, не говорить, не думать зла.
Лев Толстой.203
204 Печатается по рукописной копии в тетради № 15 из AЧ. Автограф сгорел. Два отрывка впервые опубликованы в журнале «Голос минувшего» 1919, 5—12, стр. 175; полностью опубликовано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», М. 1929, стр. 36. Датируется сопоставлением содержания письма с упоминанием его под датой «13 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
Приписка к несохранившемуся письму М. Л Толстой.
Ольга Алексеевна Баршева (1844—1893) — бывшая классная дама московского Николаевского сиротского института, сослуживица и подруга М. А. Шмидт.
* 191. В. А. Гольцеву.
1890 г. Декабря 14. Я. П.
Дорогой Виктор Александрович!
Письмо это передаст вам г-н Диллон проездом от меня.1 Если это возможно, то, пожалуйста, дайте ему оттиск предисловия моего к книге Алексеева.
Кроме того, я уверен, что вы найдете удовольствие в знакомстве с ним.
Мы ждем вас с Лесковым, и я очень рад этому.
Ваш Л. Толстой.
Дата определяется записью в Дневнике Толстого 15 декабря о пребывании и отъезде Диллона (т. 51, стр. 111) и упоминанием под датой «14 декабря» письма к В. А. Гольцеву в Списке М. Л. Толстой.
1 Э. М. Диллон приехал в Ясную Поляну 12 декабря и уехал 15 декабря (см. ДСАТ, I, стр. 153—154).
* 192. А. В. Дольнеру.
1890 г. Декабря 17. Я. П.
Дорогой Анатолий Константинович.1
От Русанова, бывшего у меня, узнал о том, что вы больны в Одессе, и тут же вскоре получила М[аша] ваше письмо.2 Надеюсь, что это письмо не пропадет, как Воронежское.3
Сам не знаю, жалею ли я вас. Простое первое, непосредственное чувство это жалость, но как подумаю о вас, насколько я знаю происходящую в вас внутреннюю работу, так думаю, что204 205 хорошо, как и всё, совершающееся по закону бога и жизни. Но если это хорошо, то для вас; для меня же очень нехорошо то, что вы страдаете, нехорошо и больно. Пишу я с этой почтой письмо одному Одесскому учителю,4 кот[орого] не знаю, но с к[оторым] имел сношения по учреждаемому им обществу трезвости, прося его зайти к вам и помочь, чем можно — в чем нужно. — Место Анненковой5 занято; но мне приходит в голову предложить вам место в Москве у Сытина, в устраиваемой им рисовальной школе.6 И еще есть место в виду — домашнего учителя в семействе добродушного простого помещика, воспитывавшего прежде детей старших в гимназии, а теперь решившего оставаться в деревне и там учить их. Напишите поподробнее о себе и в матерьяльном, и в духовном отношении. —
Через Рус[анова], слышавшего от Алмазова, я знаю про ваше житье на Кавказе. Про Пастухова знаю только то, что он еще в Белеве, хотя и слабо держится там. Вероятно, на днях увижу его, когда он приедет на праздники в Тулу. —
Ничто, я думаю, столько, как ваше положение, не освобождает от зависимости от людей, и не приближает или, скорее, может приближать к богу. Только тогда обопрешься на него, когда люди оставят. Помогай вам бог нести свой крест терпеливо, покорно, чтобы вынести всё то добро, кот[орое] дает и может дать внешнее страдание. А то обидно, как страдание было тоже, а борясь с ним, негодуя, отчаиваясь, не вынес из него всё то, что свойственно ему давать.
Братски целую вас.
Любящий вас Л. Толстой.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 20 декабря о событиях за 17 и 18 декабря (т. 51, стр. 114) и упоминания о нем под датой «17 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
1 После увольнения от должности сельского учителя (см. прим. к письму № 41) Дольнер сделал неудачную попытку поселиться на Кавказе; с Кавказа Дольнер поехал в Одессу, где заболел. Очутившись без средств в незнакомом городе, он испытывал сильную нужду.
1 Ошибка Толстого. Дольнера звали: Анатолий Владиславович.
2 Упоминаемое письмо неизвестно.
3 См. «Список писем Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен», № 38.
4 А. И. Ярышкину. См. письмо № 195.
5 См. прим. 1 к письму № 152.205
206 6 Школа, организованная для детей рабочих при типографии И. Д. Сытина, готовившая специалистов технического рисования и литографского дела для нужд своего издательства. Устроителем и заведующим школы был художник Н. А. Касаткин (1859—1930). С 1905 г. школа готовила художников-графиков. См. В. Фролов, «Художественная школа при главной типо-литографии И. Д. Сытина» — «Полвека для книги». Литературнохудожественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сытина, М. 1916, стр. 582—584.
* 193. И. Г. Журавову.
1890 г. Декабря 17. Я. П.
Как хорошо, что вы, как и писали в предпоследнем письме, довольны своей участью, не ищете изменения ее, и теперь выражаете еще большее довольство. Я радуюсь за вас, потому что довольство своими внешними материальными условиями показывает совсем не то, как думают обыкновенно, что эти условия хороши, а только то, что внутреннее, душевное состояние хорошо, что у человека есть духовная пища. Если же нет этой духовной пищи, то какие бы ни были внешние условия, человек никогда ими не доволен. Пища же жизни истинной состоит в том, чтобы творить волю пославшего нас сюда и совершить дело его. Воля же его и дело его то, чтобы, во-первых, отдавать оброк за данную нам жизнь добрыми делами, добрые же дела суть те дела, которые увеличивают любовь в людях, а дело его то, чтобы увеличить, возрастить тот талант, нашу душу, который дан нам. И одно нельзя сделать без другого. Нельзя делать добрых дел, увеличивающих любовь, без того, чтобы не увеличить свой талант, свою душу, не увеличить в ней любовь, и нельзя увеличить свой талант, увеличить любовь в своей душе без того, чтобы не делать добро людям, увеличивая в них любовь. Так что одно зависит от другого, и одно поверяет другое. Если ты делаешь дело, которое считаешь добрым, но не чувствуешь увеличения любви в своей душе, если в твоей душе при этом не радостно, то знай, что дело, которое ты делаешь, не доброе. Если ты что-либо делаешь для своей души и при этом не увеличивается добро в людях, то знай, что бесполезно то, что ты делаешь для своей души.
Так я думал последнее время, и мысли эти помогли мне жить, и потому сообщаю их и вам.206
207 Печатается по машинописной копии из AЧ. Большой отрывок впервые опубликован в сборнике «О смысле жизни. Мысли Л. Н. Толстого, собранные. Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch, 1903, стр. 20—21. Дата копии «18 декабря 1890 г.» уточняется на основании записи в Дневнике Толстого 20 декабря о событиях за 17 и 18 декабря (т. 51, стр. 114) и упоминания о нем под датой «17 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
Иван Герасимович Журавов (р. 1862) — крестьянин села Хотуш, Тульского уезда, автор нескольких рассказов, напечатанных в «Посреднике». См. т. 64, стр. 234.
Письмо Журавова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
194. С. Т. Семенову.
1890 г. Декабря 17. Я. П.
Очень рад был получить ваше письмо, дорогой Сергей Терентьевич, — рад был особенно п[отому], ч[то] вижу, что вы, не перестаете стремиться к тому совершенству, к[оторое] указано нам Христом, и страдаете, когда отступаете от него, и не теряете надежду приближаться к нему.
Как ни дурен поступок Петра, отрекшегося от своего учителя, мы все, вероятно, испытали одно и то ж[е] чувство увеличения, любви к Петру тогда, когда он оплакивал это свое отречение.
Семейные дрязги, как вы пишете, самый сильный соблазн. Трудней всего среди них удержать верность своим намерениям добра; и потому, я думаю, все силы души надо напрягать на то, чтобы не понижать своей жизни именно в этой домашней среде. Я говорю вам то, что сам испытываю и чем сам страдаю. — Помогает мне в этом, главное, память о том, что семейные — жена, дети, для вас — отец, мать, если сами не уважают меня, как бы мне хотелось, то себе требуют от меня уважения, и что, если я не могу относиться к ним всегда с любовью, и всегда должен, несмотря на их ко мне отношение, относиться к ним с уважением. А то самое обыкновенное в семье: либо любовь, либо презрение, пренебрежение; а пренебрежение после любви особенно чувствительно. Кроме того, если я в глубине души считаю, что я нравственно стою выше, ближе к истине, к Христу, чем они, что очень дурно, то эта самая большая близость к Х[ристу] обязывает меня не считаться с ними, не судить их недостатков, а переносить их обиды терпеливо, радостно. Если я более христианин, чем они, то это должно чем-нибудь выразиться,207 208 а больше нечем, как смирением, покорностью, неосуждением.
Еще помогает мне в этих соблазнах молитва. Молитесь беспрестанно, чтобы не впасть в искушение. Это трудно, но если достигнешь этого, то очень много придает нравственной силы. Молиться беспрестанно в середине разговора, кот[орый] начинает становиться раздражительным, в суете работы, можно только какой-нибудь очень короткой молитвой, такой, к[оторая] напоминала бы двумя, тремя словами то, что нужно помнить. У каждого такая своя должна быть молитва. Я чаще всего в эти минуты, когда вижу, что я сбиваюсь и начинаю говорить или делать не то, что надо, молюсь так: живи для бога, или перед богом, и это образумивает меня. — Мне жаль, что у вас нет близких по духу людей — это большая радость; но не скажу, чтоб это была необходимость. Духовный рост иногда лучше совершается в одиночестве. —
Я за последнее время написал только статью: «Зачем люди одурманиваются?» против вина, табаку и др. Я вам пришлю, когда выйдет, а теперь пишу о непротивлении злу насилием. Послесловие к Крейц[еровой] Сон[ате] вы, вероятно, знаете. В Москве вы найдете много друзей, и все будут рады вас видеть. Пишите мне.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 72—73. Дата, имеющаяся на копии AЧ: «18 декабря 1890 г.», уточняется на основании записи в Дневнике Толстого 20 декабря (т. 51, стр. 114) и упоминания об этом письме под датой «17 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
Письмо Семенова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
* 195. А. И. Ярышкину.
1890 г. Декабря 17: Я. П.
Я вчера получил из Петербурга известие, что устав вашего общества трезвости1 утвержден. Желаю вам успеха. Пишу вам, чтобы просить вас сделать мне большое одолжение. В Одессе в городской больнице лежит любимый и уважаемый мною молодой человек Анатолий Владиславович2 Дольнер, он бывший воспитанник Академии Художеств. У него нет никого208 209 знакомых в Одессе и нет никаких средств. Посетите его пожалуйста, узнайте, что ему нужно и, как можете, помогите ему. Если помощь, что всего вероятнее, нужна ему в виде работы, постарайтесь достать ему, если нужна помощь в виде денег и вы можете ссудить мне, то передайте ему, я же сейчас вам вышлю. Надеюсь, что вы не посетуете на меня за эту просьбу и поручение, и даже уверен, что если исполните ее, будете благодарны за случай познакомиться с замечательно умным и хорошим человеком. Во всяком случае благодарю вас за всё, что вы сделаете.
Лев Толстой.
Печатается по копии с подлинника, сделанной рукой А. И. Ярышкина. Дата копии «18 дек. 1890 г.» уточняется на основании записи в Дневнике Толстого 20 декабря (т. 51, стр. 114) и упоминания об этом письме под датой «17 декабря» в Списке М. Л. Толстой.
Александр Иванович Ярышкин — в то время учитель в Одессе, организатор «Одесского общества для борьбы с пьянством».
1 Ярышкин хлопотал через Толстого об утверждении устава Общества трезвости в Министерстве внутренних дел.
2 В копии ошибочно: Вячеславович.
196. H. Н. Ге (отцу).
1890 г. Декабря 18. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой друг, т. е. к Маше, в то время, как сам каждый день собирался писать вам. Писать нет ничего особенного, а просто хочется, чтобы вы с Количкой помнили меня и знали, что я вас помню и люблю. Известия от вас хорошие и те, к[оторые] от вас, и те, к[оторые] мне передал Поша о Количке и его жизни. От вас известия хороши и о том, что Количка собирается приехать, и о том, что Элпидифоровна1 хорошо устроилась и хорошо себя чувствует, и о том, что работается.2 Это большое счастье, когда работается с верой в свою работу, счастье, к[оторое] когда дается, чувствуешь, что его не стоишь. У нас всё это последнее время темные посетители: Буткевичи, Поша, Русанов, Буланже, Попов, Хохлов, кот[орые] еще теперь здесь. Поминаю ваши слова, что человек дороже полотна, и тем заглушаю свое сожаление о медленном движении209 210 моей работы, кот[орая] разрастается и затягивает меня.3 А за ней стоят другие, лучшие, ждут очереди, особенно теперь, в это зимнее, самое мое рабочее время. Вчера получил Review of Reviews, в кот[ором] статья Диллона о вас4 и ваш портрет Ярошенки,5 тайн[ая] веч[еря], выход с т[айной] в[ечери], милосердие, Петр и Ал[ексей] и Что есть ист[ина]. Диллон был у нас и рассказывал, что и в Англии последняя картина понравилась.6 Что пишет Ильин? Где он? Как бы опять не замучал вас. У нас все здоровы и благополучны, Лева и Таня уехали к Илье.7 Поша б[ыл] принят хорошо и оставил нам самое радостное, чистое впечатление. Количке, Рубану,8 Зое,9 Элпидифор[овне] и прежде всех Анне Петр[овне] передайте мой привет и любовь. Читаю я теперь в свободное время книгу Renan, «L'avenir de la science»10 — это он написал в 48 году, когда еще не был эстетиком и верил в то, что единое на потребу. Теперь же он сам в предисловии с высоты своего нравственного оскопления смотрит на свою молодую книгу. А в книге много хорошего. Чертков просил написать или поправить тексты к картинам, и представьте, что, попытавшись это исполнить, я убедился больше, чем когда-нибудь, что эти выбранные лучшие по содержанию картины — пустяки. К евангельской картине могу пытаться писать текст — выразить то, как понял художник известное место, а тут — хоть осужденный,11 или повсюду жизнь12 очень хорошие картины, но не нужные и нечего писать о них. Всякий, взглянув на них, получит свое какое-либо впечатление, но одного чего-нибудь ясного, определенного она не говорит, и объяснение суживает значение ее, а углублять нечего. — Может быть, вы поймете, хотя не ясно. Целую вас всех.
Л. Толстой.
Впервые полностью напечатано в ТГ, стр. 136—138. Датируется по содержанию и упоминанию о письме под датой «18 декабря» в Списке М. Л. Толстой. См. также запись в Дневнике Толстого 20 декабря (т. 51, стр. 114).
Ответ на несохранившееся письмо H. Н. Ге к М. Л. Толстой.
1 Анна Элпидифоровна Владыкина, в то время фельдшерица, впоследствии врач.
2 H. Н. Ге зимой 1890/91 г. работал над картиной «Совесть».
3 Работа над статьей «Царство божие внутри вас».
4 D-r E. J. Dillon, «Gay, Artiste and Apostle. Life and works of a famous russian painter» — «Review of Reviews» 1890, II, № 12. (Д-р E. Диллон,210 211 «Ге, художник и апостол. Жизнь и произведения знаменитого русского художника»). В книге помещены снимки с портрета Ге работы Н. А. Ярошенко (стр. 700) и с картин Ге: «Петр и Алексей» (стр. 701), «Тайная вечеря» (стр. 703), «Выход с тайной вечери» (стр. 705); уничтоженный вариант картины «Молитва в Гефсиманском саду» (стр. 706); окончательный вариант этой картины (стр. 707); «Милосердие» (стр. 711); «Что есть истина?» (стр. 713).
5 Николай Александрович Ярошенко (1846—1898) — художник, член «Товарищества передвижных выставок». Портрет Н. Н. Ге его работы хранится в Русском музее в Ленинграде.
6 В Англии картина Ге «Что есть истина?» не выставлялась. Отзывы
об этой картине были сделаны, очевидно, по репродукции с нее или же по рассказам видевших ее в Германии. См. В. В. Стасов, «Николай Николаевич Ге», изд. «Посредник», М. 1904, стр. 341.
7 Илья Львович Толстой (1866—1933), второй сын Толстого, жил в имении Гриневка, Чернского уезда Тульской губ.
8 Григорий Семенович Рубан-Щуровский.
9 Зоя Григорьевна Рубан-Щуровская.
10 Ernest Renan, «L’avenir de la science. Pensées de 1848», Paris 1890 (Эрнест Ренан, «Будущее науки. Мысли 1848 г.»).
11 «Осужденный», картина В. Е. Маковского, написанная в 1879 г. Находится в Русском музее в Ленинграде.
12 «Всюду жизнь», картина Н. А. Ярошенко, написанная в 1888 г. Находится в Третьяковской галлерее в Москве.
197. Г. А. Русанову.
1890 г. Декабря 19. Я. П.
Письмо это вам передаст Евг[ений] Иван[ович] Попов, едущий от меня к Черткову. Я просил его заехать к вам. Вам обоим хорошо будет узнать друг друга. Как вы доехали? напишите. Обнимаю вас. Дай бог вам продолжать быть таким же, т. е. не переставая итти.
Л. Т.
На конверте: Воронеж. Введенская улица, д. Прибытковой. Гавриилу Андреевичу Русанову.
Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» 1915, 3, стр. 20. Дата определяется пометой о получении письма на автографе и записью в Дневнике С. А. Толстой 19 декабря, свидетельствующей о том, что Е. И. Попов в этот день еще был в Ясной Поляне (ДСАТ, I, стр. 156).
198—199. В. Г. Черткову от 21 и 31 декабря 1890 г.
* 200. Н. В. Давыдову.
1890 г. Ноябрь — декабрь. Я. П.
Николай Васильевич.
Записку эту передаст вам сын бывшего земского агента Боровкова, который ищет какого бы то ни было места. Он очень жалок. Не можете ли помочь ему и не досадовать на меня, что утруждаю вас.
Л. Толстой.
Дата определяется сопоставлением этого письма с письмом к Н. В. Давыдову от 4—13 октября 1890 г., № 150. Письмо это написано после письма № 150, так как здесь Боровков называется уже «бывшим» страховым агентом.
* 201. Н. В. Давыдову.
1890 г. Конец? Я. П.
Если вы помните, дорогой Николай Васильевич, дело давнишнее двух женщин, приговоренных к тюрьме за сорванную траву, то вот по этому делу вызывают теперь этих женщин в Окружн[ой] суд. Родные их и они сами в большой тревоге. Что это значит? Будьте добры, сообщите подателю.
1Что это, как мы давно не видались? Живы, здоровы, благополучны ли?
Л. Толстой.
Дата определяется приблизительно, записью в Дневнике Толстого 27 августа 1890 г.: «Мужики из Кутьмы. На мировом съезде утвердили решение судьи о заключении двух женщин в острог за подол травы» (см. т. 51, стр. 82).
1 Абзац редактора.
1891
* 202. П. И. Бирюкову.
1891 г. Января 1. Я. П.
Сейчас получил ваше письмо, дорогой друг, и хочется хоть несколько слов ответить вам. (В том, что идеал недостижим и непостижим, я не только согласен, но так и выражаю это. По мере того, как идеал постигается и достигается, он опять удаляется, чтобы вновь еще яснее быть постигнутым и достигнутым. Насчет же того, что по моему определению христианство сливается с движением прогресса, я не могу решить, хорошо ли это или дурно. Прогресс есть христианство: он только в христианстве, и поэтому я склоняюсь к такому взгляду. Но поговор[им] об этом после.)
О ваших личных делах не скажу, что скорблю. Разумеется, больно, но в этом жизнь. В этом жизнь, чтобы делать это не больно себе и другим.
Сейчас 12 ч., новый 1891 год. Целую вас. Мы живем хорошо. Пишите чаще.
Л. Толстой.
Письмо Бирюкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
203. Н. Н. Ге (отцу).
1891 г. Января 4. Я. П.
Количке рад я, да и мы все несказанно. Он не такой же, как был, а лучше. —
Рассказал он мне про вашу картину.1 Его ведут, Петр бежит, Иуда стоит и совесть бьет его. Чудесно! Меня умилило.213
214 Работайте так, кончайте. Впрочем, судья в вас один знает. Обнимаю вас.
Л. Т.
Впервые опубликовано почти полностью с неверной датой: «31 января 1891 г.» в «Книжках Недели» 1897, 8, стр. 183; полностью в ТГ, стр. 139. Датируется на основании пометы на письме о получении его и даты машинописной копии из AЧ.
Приписка к недатированному письму Н. Н. Ге (сына) к своему отцу. См. прим. 8 к письму № 216.
1 Картина Н. Н. Ге, названная впоследствии «Совесть». Вариант картины, описанный Толстым со слов Н. Н. Ге (сына), не последний. Картина была приобретена П. М. Третьяковым и находится в Третьяковской галлерее в Москве.
* 204. П. И. Бирюкову.
1891 г. Января 7. Я. П.
Получил и другое ваше письмо, дорогой Павел Иванович, и рад, что вы в нем бодрее. Спасибо за выписку из Сет[и] Веры. Нынче Софья Андреевна очень взволновалась; ей без всякого основания показалось, что Маша что-то таит от нее, замышляет, и она написала вам письмо и послала деньги за книгу. Она сказала мне, что посылает деньги и пишет, но я не прочел письма.1 Она эти дни в возбужденном состоянии. Я надеюсь, что это пройдет, и она будет смотреть, как прежде. Я уверен, что когда она увидит, что ни в Маше, ни в вас, ни во мне нет никакой перемены, она сама вернется к старому. Так я говорил Маше, с чем она согласна, так советую и вам, если вы будете отвечать ей.
Вы каетесь, милый друг, что вам приходят мысли об общественной деятельности. Грех не в том, чтобы думать об общественной деятельности или о чем-либо другом, а в том, чтобы думать о будущем. Не могу вам передать, до какой степени мне ясно, что всякие думы о будущем с нашей возможностью, очень вероятной, не дожить до вечера, есть безумие. Всякое самое хорошее вероятное предположение о будущем, то, что я доеду туда, буду жить там с тем, так же нелепо, как предположение о том, что я буду китайским императором. Нисколько одно не нелепее другого. Нелепее только те мечты, для исполнения214 215 кот[орых] нужно предполагать не одну свою, но еще и чужую жизнь в известных условиях. Это камень в ваш огород, если огород этот у вас открыт. Жить нынче, жить завтра, когда оно будет нынче, и выйдет то самое, что нужно и лучшее для нас.
Да вы всё это знаете лучше меня. Писать ли вам об идеале? Я думаю, что мы согласны, я, по крайней мере, согласен с вами. А теперь и пишу об этом.2 Бог даст, прочтете. Первое письмо ваше огорчило меня за вас. Жалко вас, но спасибо, что пишете это про себя. Это самое нужное знать. Маша, как и все мы, грешные, то поднимается, то падает духом волнообразно, но живет, кажется, хорошо: «кажется», п[отому] ч[то] она одна знает. — Ну, прощайте. Целую вас.
Л. Т.
Количка приехал в новый год и теперь еще с нами. Теперь они у Булыгина. Мне очень радостно б[ыло] его видеть. Он такой же, как всегда, еще лучше. Как хорошо, что вы были у него. Я уверен, что ему это помогло.
Датируется по содержанию и записи в Дневнике Толстого 8 января (см. т. 52, стр. 4).
Ответ на письмо Бирюкова, написанное из Ивановского, Костромской губ., от 30 декабря 1890 г.
1 7 января С. А. Толстая записала в своем дневнике: «Сегодня я послала Бирюкову деньги за книгу, которую он купил и прислал Маше, и написала ему свое нежеланье отдать за него Машу, прося не приезжать и не переписываться с ней. Маша услыхала, что я говорила об этом письме Левочке, сердилась, говорила, что берет все свои обещания мне назад, я тоже взволновалась до слез» (ДСАТ, I, стр. 165).
2 В статье «Царство божие внутри вас».
П. И. Бирюков отвечал письмом от 9 января.
* 205. В. А. Гольцеву.
1891 г. Января 7. Я. П.
Очень вам благодарен, дорогой Виктор Александро[вич], за ваше извещение и хлопоты о книге Алексеева. Нашли ли вы статью для дополнения, а то я поищу в англ[ийских] журналах.
Книжечку вашу я прочел. Задача слишком трудная, даже невозможная изложить в таком объеме такие важные и поучительные215 216 события 1 А, разумеется, знать их хорошо, полезно, и хороший грамотей кое-что узнает.
Об искусстве всё хочется кончить, да всё не успеваю.2
Как жаль, что вы раздумали побывать у нас. Может быть, выберете времячко, очень будем рады. Дружески жму вашу руку.
Л. Толстой.
Кроме автографа, имеется также несколько отличающийся от основного черновой текст в машинописной копии.
Дата определяется на основании записи в Дневнике Толстого 8 января (см. т. 52, стр. 4).
1 [В. А. Гольцев], «Рассказ про смутное время на Руси», изд. редакции журнала «Русская мысль», М. 1891.
2 См. т. 30 — «Историю писания и печатания трактата и статей об искусстве».
В. А. Гольцев отвечал в письме без даты с почтовым штемпелем «Москва, 17 января 1891»: «Всего лучше будет, если Вы сами пришлете какую-нибудь дополнительную статейку для книги Алексеева, а то, пожалуй, выберу что-нибудь не в тон».
206. H. Н. Страхову.
1891 г. Января 7. Я. П.
Кажется, я виноват перед вами, дорогой Николай Николаевич, за ваше хорошее последнее письмо,1 что не отвечал. Очень занят. Все силы, какие есть, кладу в работу, к[оторой] занят и к[оторая] подвигается понемногу — вступила в тот фазис, при кот[ором] регулярно каждый день берешься за прежнее, проглядываешь, поправляешь последнее и двигаешь хоть немного вперед, а то зады исправляешь в 10 и 20-й раз, но уже видишь, что основа заложена и останется. — Это делаешь утром, потом отдыхаешь, гуляешь, потом семейные, посетители, потом чтение.
2À propos de3 чтение, я читаю книгу, при кот[орой] беспрестанно вас поминаю и всё хочется с вами поделиться впечатлением; это книга Ренана «L'avenir de la science».4 Я не жалею, что выписал ее. Я прочел треть, и, по-моему, никогда Ренан не писал ничего умнее: вся блестит умом и тонкими, верными, глубокими замечаниями о самых важных предметах, о науке,216 217 философии, филологии, как он ее понимает, о религии. В предисловии он сам себя третирует свысока, а в книге 48 года (я думаю, что он много подправил ее в 90-м году) он иронически и презрительно и замечательно умно отзывается о людях, судящих о предметах так, как он судит в предисловии; так что понимайте, как хотите, но знайте, что ума в нас бездна, что одно и требуется доказать. В общем и ложная постановка вопроса того, что есть наука, и отсутствие серьезности сердечной, т. е. что ему всё всё равно; такой же он легченый, с вырезанными нравственными яйцами, как и все ученые нашего времени, но зато светлая голова и замечательно умен. — Например, разве не прелестно рассуждение о том, что для людей древних чудеса не были сверхъестественными, а естественными явлениями: всё для них совершалось чудесами, как и для народа теперь. Но каково же положение головы человека с научным воззрением на мир, к[оторый] хочет втиснуть в эти воззрения чудеса древнего мира?
5Письмо ваше не под рукой у меня и потому, мож[ет] б[ыть], на что-либо не отвечаю; если так, то простите. Целую вас.
Лев Толстой.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 422. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 8 января (см. т. 52, стр. 4).
1 От 2 января 1891 г. См. ПС, стр. 419—421.
2 Абзац редактора.
3 [Кстати о]
4 См. письмо № 196 и прим. 10 к нему.
5 Абзац редактора.
207. В. Г. Черткову от 7 января 1891 г.
208. М. М. Лисицыну.
1891 г. Января 8. Я. П.
Очень рад был получить письмо ваше, Михаил Михайлович, и узнать из него о вас и отчасти о вашем настроении. Благодарю вас за ваше поздравление; желаю и вам всего хорошего. За советом о книгах для народа обратитесь к Владим[иру] Григорьев[ичу] Черткову, Воронежск[ая] губ. Россоша.217
218 Изданию газеты русской с не русским, а христианским направлением, и потому братским отношением к немцам, очень сочувствую, и когда получите разрешение и составите программу, не откажусь хотя номинально участвовать. Говорю номинально, п[отому] ч[то] дела так много, а сил так мало, что наверное не успею кончить задуманного; а не кончив задуманного, не позволю себе заниматься другим.
Лев Толстой.
На обороте: Дерпт. Университет. Михаилу Михайловичу Лисицыну.
Впервые опубликовано в альманахе «Литературная мысль», II, Пгр. 1923, стр. 202. Датируется на основании почтового штемпеля и упоминания под датой «8 января» в Списке М. Л. Толстой.
Ответ на письмо Лисицына из Дерпта без даты, с почтовым штемпелем «Москва, 3 января 1891», в котором Лисицын писал о полученном им разрешении торговать при помощи разносчиков «народными книжками»; спрашивал совета, как организовать это дело; сообщал о своем желании издавать газету на русском языке с «христианским направлением», которую он думал распространять и среди живущих в Дерпте немцев. Лисицын предполагал перевести в Дерпт закрытую в Митаве газету «Прибалтийский край», которую был приглашен редактировать под новым названием; просил Толстого принять участие в газете.
* 209. Т. А. Кузминской.
1891 г. Января 9. Я. П.
Поздравлять я не могу, п[отому] ч[то] это ничего не значит, а все-таки рад случаю написать тебе, напомнить о себе и сказать, что тебя люблю по-старому. Радуюсь, что ты здорова. Маша твоя очень мила, но страшна: страшно так ставить всю жизнь на одну карту, как она делает,1 что я ей и говорю. Я живу хорошо, но хотелось бы лучше и стараюсь, что и тебе советую и желаю. Целую тебя, Веру, Сашу и детей. —
Л. Т.
Приписка к письму М. А. Кузминской к Т. А. Кузминской от 9 января 1891 г. с поздравлением с именинами, 12 января.
Татьяна Андреевна Кузминская, рожд. Берс (1846—1925) — младшая сестра С. А. Толстой. См. т. 83, стр. 15—16.
1 М. А. Кузминская была тогда невестой гусарского офицера Ивана Егоровича Эрдели. Свадьба их состоялась 25 августа 1891 г.
210. П. В. Засодимскому.
1891 г. Января 13. Я. П.
Павел Владимирович! Я получил ваш рассказ1 и тотчас же прочел про себя и другой раз своим домашним, так он мне понравился. Это то самое искусство, к[оторое] имеет право на существование. Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердце. Вы спрашиваете о слабых сторонах. Слабого нет, всё сильно, а недостатк[и] есть: недостаток один тот, что во многих местах слишком подчеркнута дрянность рассказчика, н[а]п[ример], где он говорит про свою храбрость — товарищ, дворник, дуэль — это надо выкинуть; другое это его рассуждения и чувство под взглядом ребенка — это неверно в противуположную сторону (притом у новорожден[ных] не бывает голубых глаз). Третье — не нравятся мне в конце его мечты о том, что могло бы быть, о елке. — Рассказ очень, очень хороший и по форме и по содержанию, и очень благодарен вам за присылку его.
Л. Толстой.
На обороте: Петербург. Сергиевская ул., д. 61, кв. 14. Павлу Владимировичу Засодимскому.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 2, стр. 74. Датируется по почтовому штемпелю и упоминанию этого письма под датой «19 января» в Списке М. Л. Толстой.
Павел Владимирович Засодимский (1843—1912) — писатель-народник.
Ответ на письмо Засодимского от 28 декабря 1891 г. (см. «Летописи», 2, стр. 74).
1 «У потухшего камелька».
211. Г. С. Рубану-Щуровскому.
1891 г. Января 13. Я. П.
Очень рад был получить письмо от вас, дорогой Григорий Семенович, рад просто общению с вами и рад б[ыл] тому вопросу, который вы мне делаете. Как раз в это самое время Чертков прислал мне мои же, когда-то написанные мысли об искусстве, прося привести их в окончательный вид. Я не кончил и не издал их тогда именно п[отому], ч[то] хорошенько не разрешил того219 220 вопроса, к[оторый] вы мне задаете. — Чем отличается искусство, — та особенная деятельность людская, к[оторая] называется этим именем, — от всякой другой деятельности, я знаю, но чем отличаются произведения искусства, нужные и важные для людей, от ненужных и неважных, где эта черта, отделяющая одно [от] другого? — я еще не сумел ясно выразить, хотя знаю, что она есть, и что есть такое нужное и важное искусство. Само евангелие есть произведение такого искусства.
Есть самое важное — жизнь, как вы справедливо говорите, но жизнь наша связана с жизнью других людей и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Жизнь — тем более жизнь, чем теснее ее связь с жизнью других, с общей жизнью. Вот эта-то связь и устанавливается искусством в самом широком его смысле. — Если бы никто не употребил словесного искусства для выражения жизни и учения Христа, я бы не знал его.
И потому я думаю, что искусство важное дело, и его не надо смешивать с жизнью. Жизнь сама по себе, а искусство само по себе.
Передайте мой привет вашей жене.
Л. Толстой.
Впервые опубликовано с датой «январь 1891 г.» и с пропуском одной фразы в журнале «Мир искусства» 1902, 4, стр. 229. Датируется по содержанию и по упоминанию этого письма под датой «13 января» в Списке М. Л. Толстой.
Григорий Семенович Рубан-Щуровский (1857—1920) — фельдшер; был женат на племяннице художника Ге Зое Григорьевне Ге. В 1889—1895 г. жил на хуторе Ге.
Ответ на письмо Рубана-Щуровского без даты, с карандашной пометой рукой неизвестного: «8 янв.».
212. В. Г. Черткову от 15 января 1891 г.
213. Д. А. Хилкову.
1891 г. Января 19. Я. П.
Третьего дня получил ваше письмо, Дм[итрий] Ал[ександрович], и сейчас опять перечел его.1 Постараюсь ответить на главное содержание его, как я его понимаю.
Что же за беда, что община распалась? Если бы мы считали, что общины эти образец того, как должно осуществиться в мире220 221 учение Христа и как установиться царство божье, тогда бы это было ужасно: тогда распадение общины показало бы несостоятельность2 учения Христа; но так ведь не смотрели на эти общины не только мы со стороны, но и участвовавшие в них. (Если кто смотрел так, то распадение исправит этот ложный взгляд, и потому распадение в этом смысле даже полезно.) Общины эти были известной формой жизни, какую избрали некоторые люди в своем движении по пути, указанном Христом. Другие люди избрали другие формы (или другие люди были поставлены в другие условия), как вы, я, Ге и все люди, идущие по тому же пути. И, как вы сами пишете это, как ни хороши поселения отдельные, они хороши, пока нужны всякие формы, как формы непременно переходные, как волны. Если общины распались, то только потому, что люди, жившие в них, выросли из своей оболочки и разорвали ее. И этому можно только радоваться. Я пишу теперь отчасти об этом, и, разумеется, в письме не выскажешь всего ясно, но попытаюсь, а вы помогите — понимайте и неясно сказанное.
3Христианство есть движение по пути, указанному Христом, истиною, к совершенству полному отца небесного. И христианство тем более христианство, чем более оно движение, чем ускореннее это движение. Так что начальник мытарей Закхей, весь живший в своей похоти, вдруг решивший отдать...,4 в этот момент больше христианин, чем ученики, спрашивавшие, какие им будут награды за их верность, разбойник на кресте, блудница, мытарь — больше, чем фарисей. Всякий человек, на какой бы он низкой ступени ни стоял, может быть христианином, двигаться, и может ускорить это движение до бесконечности (заметьте, ничто не трогает нас, не радует нас так сильно, как эти движения, когда грешник кается — потерянная овца, монета), и на какой бы высокой ступени праведности человек ни стоял, [он] может перестать двигаться, перестать быть христианином. Ничто же не останавливает так движения, как известная форма, как оглядыванье на себя, сознание себя на известной ступени (ведь это сознание и есть форма), (чтобы левая не знала, что делает правая, и не надежен для ц[арства] б[ожия] взявшийся за плуг и оглядывающийся назад). Это самое делали и делают все церкви. Что есть церковь? Прочтите в катехизисе в православном, и католическом, и лютеранском. Они друг друга отрицают и каждая утверждает, что221 222 она в истине. Так что строгое, точное определение церкви — это люди, утверждающие про себя, что то понимание истины и исполнение ее, которое они себе усвоили, есть единое правильное. А это ведь говорит всякий человек, который признает ту форму, которую он избрал, единой правильной. Это стремление людей создавать форму и признавать ее правильной, хотя бы это и не доходило до жестокости церковной, есть главное препятствие христианству — это трение. И задача людей, идущих за Христом, — уменьшать это трение сколь возможно. Форм для следования по пути Христа, как точек на бесконечной линии, бесконечное количество и ни одна не важнее другой. Важна быстрота движения. А быстрота движения в обратном отношении к возможности определения точек.
Еще: вы говорите, что вам не нравится слово и понятие самосовершенствование и также не нравится совершенствование: оно слишком неопределенно и широко. Я это понимаю. Я об этом самом, — а это имеет связь с вопросом об общинах и о формах — думал так (притча о садовниках, не дающих оброка, и о талантах). Жизнь истинная дана человеку под двумя условиями: 1) чтобы он делал добро людям (добро же есть только одно — увеличивать любовь в людях — накормить голодного, посетить больного и т. д. — всё это только для того, чтобы увеличивать любовь в людях), а 2) чтобы он увеличивал данную ему силу любви. Одно обусловливает другое: добрые дела, увеличивающие любовь в людях, только тогда таковы, когда при совершении их я чувствую, что во мне увеличивается любовь, когда делаю их любя, с умилением; увеличивается не во мне любовь (я совершенствуюсь) только тогда, когда я делаю добрые дела и вызываю любовь в других людях. Так что, если я делаю добрые дела и остаюсь холоден, или если совершенствуюсь и думаю, что увеличиваю в себе любовь, а это не вызывает любви в людях (другой раз еще вызывает зло), то это не то. Только тогда — и мы все это знаем — я наверно знаю, что то, когда и я люблю больше, и люди делаются от этого любовнее (между прочим это доказательство того, что любовь есть единая сущность. Бог один во всех нас — раскрывая его в себе, раскрываешь его в других, и наоборот).
Так вот я думаю, что всякое устройство, всякое определение, всякая остановка сознания на каком-нибудь состоянии есть преобладание заботы об увеличении в себе любви, самосовершенствования222 223 без добрых дел. Самая грубая форма такая есть стояние на столбу, но всякая форма есть более или менее такое стояние. Всякая форма отдаляет от людей, следовательно, и от возможности добрых дел и вызывания в них любви. Таковы и общины, и это их недостаток, если признать их постоянной формой. Стояние на столбу и ухождение в пустыню, и жизнь в общине может быть нужно временно людям, но как постоянная форма это очевидный грех и неразумие. Жить чистой, святой жизнью на столбу или в общине нельзя, п[отому] ч[то] человек лишен одной половины жизни — общения с людьми, без к[оторых] его жизнь не имеет смысла. Чтобы жить постоянно так, надо обманывать5 себя, п[отому] ч[то] слишком ясно, что к[а]к невозможно в потоке мутной реки выделить каким-нибудь химическим процессом кружок чистой воды, так невозможна среди всего мира, живущего насилием для похоти, жить одному или одним святым. Ведь надо купить или нанять землю, корову, надо войти в отношения с внешним миром нехристианским. А в этих-то отношениях самое важное и нужное. Уйти от них нельзя, да и не следует, как вообще бывает нельзя делать того, что не следует. Можно только обманывать себя. Ведь всё дело ученика Христа — установить наихристианнейшие отношения с этим миром.
Представьте себе, что все люди, понимающие учение истины, как мы, собрались бы вместе и поселились бы на острове. Неужели это была бы жизнь? И представьте себе, что весь мир, все люди идут волей-неволей по одному и тому же пути, по которому идем мы; но люди, понимающие так же, как и мы, стоящие на той же ступени (теперь), разбросаны по всему миру, и мы имеем радость встречаться с ними, узнавать их и их работы. Разве это не лучше? И это то самое и есть.
Вы говорите: нельзя любить Ирода. Не знаю. Но знаю и вы знаете, что надо его любить; знаю и вы знаете, что если я не люблю его, то мне больно, у меня нет жизни (Посл[ание] И[оанна] III, 15), и потому надо стараться работать. И можно. Я представляю себе человека, прожившего среди любящих его всю жизнь в любви, но не любившего Ирода, и другого, кот[орый] все силы употребил на любовь к Ироду и оставался равнодушен к любящим его и 20 лет не любил, а на 21-й полюбил Ирода и заставил Ирода полюбить себя и других людей. Не знаю, кто лучше. И если любите любящих вас... —223
224 6Ну, пока прощайте, пишите почаще. Ha-днях пришлю вам рассказ Лескова в Петерб[ургской] газете.7 Знаете ли вы? —
На Н. Н. Ге8 не сердитесь. Он, верно, не нашел возчиков, а я знаю, что он ночью не любит сходить. Я был ужасно рад ему и его вестям о вас. — Поклон вашей жене.
Л. Толстой.
Печатается по копии рукой М. Л. Толстой и П. И. Бирюкова. Сохранился черновик-автограф этого письма. Впервые опубликовано в журнале «Свободная мысль», Женева 1899, 5, стр. 9—11. В России впервые опубликовано почти полностью в журнале «Всемирный вестник» 1906, 9, IV, стр. 3—6. Дата определяется по черновику-автографу, датированному Толстым «19 янв. 91». Та же дата имеется и на машинописной копии AЧ.
Письмо Хилкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 В черновике далее: Много вы задаете вопросов. Постараюсь ответить. Если и не пунктуально отвечу на все вопросы, то постараюсь ответить на главное, что мне так же близко и дорого, как и вам.
2 В черновике вместо: несостоятельность написано: неприложимость, мечтательность
3 Абзац редактора.
4 Многоточие в копии.
5 В копии: обманывая
6 Абзац редактора.
7 Николай Лесков, «Под Рождество обидели (Житейские случаи)» — «Петербургская газета» 1890, № 354 от 25 декабря, стр. 2.
8 Имеется в виду Н. Н. Ге, сын художника.
214. А. А. Толстой.
1891 г. Января 20. Я. П.
Я еще в том письме хотел приписать вам, дорогой друг, но Т[аня] скоро отослала, не сказав; хочется вам поживее напомнить о себе и вызвать от вас письмо. Всякий раз с особенно приятным чувством вижу ваш почерк (какое определенно приятное или неприятное впечатление почерка) и, внимательно вникая, прочитываю то, что им написано. Drummond'а проповедь1 я знаю и очень люблю. Но всё это ничто в сравнении с словами Посл[ания] Иоанна IV, 16, 12, III, 18, 17, IV, 20, III, 14, 15, IV, 7, 8. — Я их часто читаю наизусть в этом порядке и иногда понимаю и чувствую; и тогда всё легко. Главное стих 15. Это я опытом узнал, да и всякий. Я думаю, что если есть один человек, к[оторого] не любишь, то всё равно, что весь мир224 225 ненавидишь: в душе ад. — Как вы живете? Хорошо ли вам? Дай бог, чтобы было хорошо. Да и, верно, хорошо, п[отому] ч[то] вы добрая. Я живу тихо и плохо. Мало полезен людям и чувствую, как слабеют силы, так что нет надежды поправиться. Но тут утешенье Мф. XI, 28—30. Только бы быть кротким и смиренным. Целую вас.
Л. Т.
Впервые опубликовано в книге «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского музея, СПб. 1911, стр. 367.
Приписка к письму Т. Л. Толстой от 20 января 1891 г.
Александра Андреевна Толстая (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого. См. т. 47, стр. 316—317.
1 Имеется в виду книга Генри Друммонда «The greatest thing in the world». См. письмо № 115.
215. H. С. Лескову.
1891 г. Января 21—22. Я. П.
Ваша защита — прелесть,1 помогай вам бог так учить людей. Какая ясность, простота, сила и мягкость. Спасибо тем, кто вызвал эту статью. Пожалуйста, пришлите мне сколько можно этих номеров.
Благодарный вам и любящий
Л. Т.
Печатается по тексту, впервые опубликованному в сборнике «Летописи», 12, стр. 53. Датируется на основании пометы Лескова: «Получ. 23 генв. 91».
1 Толстой имеет в виду заметку Лескова «Обуянная соль» — «Петербургская газета» 1891, 12, написанную по поводу нападок на Лескова за его одобренный Толстым рассказ «Под Рождество обидели».
Лесков ответил Толстому 23 января. См. «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 94—95.
* 216. Н. Н. Ге (сыну).
1891 г. Января 23. Я. П.
Хилков пишет мне и жалуется на вас, дорогой друг Колечка, за то, что вы не заехали к нему. Я отвечал ему и утешал его.225
226 Очень сочувствую вам, милый друг, в том вмешательстве церковности и правительства в вашу жизнь, которое произошло без вас и угрожает вам. Знаю я по себе, что, грешный человек, часто желаю столкновений с ними, в которых бы я мог с достаточным основанием высказать свое отношение к ним, но как только случится или узнаю, что будет такое столкновение, так начинает усиленно биться сердце и является раздражение, которое я не одобряю в себе. Так вот, этому состоянию я сочувствую, предполагая, что в вас тем же вызывается то же. Решили вы с Гапкой прекрасно, и в этом уж сочувствую радостно.1
Хилков огорчен, что вы не заехали, потому что особенно дорожит общением и об этом пишет. Предполагает что-то вроде съездов. Я отвечал ему, как я понимаю: прежде я бы еще колебался, а теперь для меня это ясно и несомненно. Всякое оглядывание назад есть остановка и отклонение. Как в сказках, чтобы достать желтую воду2 и поющее дерево, надо итти и главное не оглядываться. И какая страшная непреодолимая сила каждого из нас (всех людей) могла бы, да и может быть, если бы мы совсем, совсем не думали ни о себе, ни о суждениях людских, а делали бы только для бога и боговским орудием, любовью. А чтобы достичь этого, одно из условий — не оглядываться и вперед не смотреть.
После вас был Клобский.3 И представьте, он стал очень, очень хорош. Я был очень рад его видеть, и особенно таким.
Мы живем по-старому. Я понемногу подвигаюсь и в работе, хотел сказать и в жизни, да не могу. Что картина?4 Я уже боюсь, что сказал. Я знаю, как в те времена, когда пишешь, бываешь чувствителен ко всяким намекам. Что картина старая?5
Григ[орий] Семен[ович]6 и Чертков навели меня опять на писанье об искусстве, да не об искусстве одном, а о науке и искусстве.7 И немного подвигаюсь. Не запутал еще. Очень бы хотелось сказать. Вы не думайте, что я спрашиваю о картинах, а о ягнятах забыл и им не сочувствую. Очень сочувствую и ягнятам, и телятам, и курам, и всей этой доброй жизни.8
Ну, прощайте, друг, не забывайте, пишите с отцом хоть по словечку. Целуйте отца, кланяйтесь жене, матери, Григ[орию] Семен[овичу], Зое. Целуйте детей. Наши все вас всегда любят очень. Лева в Москве и писал оттуда хорошее письмо. Эльпидифоровну приветствую и Ковальского.9
Л. Толстой.226
227 Печатается по копии М. Л. Толстой. Дата копии.
Письмо Н. Н. Ге (сына), на которое отвечает Толстой, не сохранилось.
1 Н. Н. Ге с женой решили не крестить ребенка, несмотря на угрозы со стороны властей.
2 Очевидно, ошибка в копии, следует читать: живую воду. См.
А. Н. Афанасьев, «Поющее дерево и птица-говорунья» в его книге «Народные русские сказки».
3 Иван Михайлович Клобский, или Клопский (1852—1898), бывший семинарист и потом студент Московского и Петербургского университетов; участник земледельческих общин; подозревался в провокаторстве. В 1896 г. эмигрировал в Америку, где в 1898 г. был раздавлен трамваем. Клобского описал А. М. Горький под названием «Толстовец» в «Моих университетах». См. т. 50 и т. 83, стр. 565.
4 Картина Н. Н. Ге «Совесть».
5 «Что есть истина?»
6 Рубан-Щуровский.
7 См. т. 30 — «Историю писания и печатания трактата и статей об искусстве».
8 В недатированном письме к отцу (см. прим. к письму № 203) из Ясной Поляны, к которому сделал приписку Толстой, Н. Н. Ге (сын) просил свою жену брать их теленка и овечку на ночь в хату, чтобы уберечь от сильных морозов.
9 Алексей Максимилианович Ковальский (1858—1929), черниговский врач. Познакомился с Толстым в Ивангороде, Черниговской губ. в 1884 г., когда Толстой приезжал к художнику Ге. Об обстоятельствах их знакомства так рассказывает жена Ковальского, П. Ф. Ковальская: «Во время приема больных в амбулаторию зашел старик, не назвавший себя. Сидел часа три. Когда кончился прием больных, он подошел к мужу и назвал себя Л. Н. Толстым. Ему очень понравилось обращение мужа с больными, и [он] признался, что до сих пор он был врагом медицины, а сейчас, после приема, готов изменить мнение. Осмотрев амбулаторию, больницу и школу, Лев Николаевич ушел пешком, как пришел, на хутор Н. Н. Ге» (из письма в редакцию настоящего издания от 23 февраля 1930 г.).
* 217. И. И. Горбунову-Посадову.
1891 г. Января 23. Я. П.
Дорогой Иван Иванович.
Я и так ждал, что вы заедете к нам, а вчера получил письмо от Лескова, в к[отором] он пишет, что вы намереваетесь заехать.1 Вот я и вздумал просить вас. Предисловие мое к книге Алексеева, хотя и набрано и, кажется, отпечатано, всё не выходит,227 228 п[отому] ч[то] книга Алексеева совсем с предисловием меньше 10 листов. Гольцев писал мне, что он приискивает, что бы о том же предмете добавить к книге, а я имел неосторожность написать, что, может быть, и я найду что-нибудь. Теперь он пишет, что рассчитывает на то, что я найду, что прибавить. Вот об этом-то я и хочу просить вас. Нет ли у вас чего переводного. Если нет, то хоть «Речи против пьянства».2 Так вот, просьба моя в том, чтоб вы в Москве зашли к Гольцеву, Виктору Александр[овичу] (свой дом у Успения на Могильцах) и покончили бы это дело, дали бы ему матерьяла столько, сколько недостает до 10 листов, с тем, чтобы книга печаталась и выходила без задержки. Я воображаю, как истомился Алексеев и сердится на меня.
Да, кажется, у Поши были еще статьи Алексеева.3
Ну, до скорого свиданья. Очень радуюсь увидать вас, коли будем живы.
Л. Толстой.
Дата поставлена на автографе М. Л. Толстой.
1 Письмо Лескова от 20 января из Петербурга, напечатанное в сборнике «Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 90—92.
2 «Речи против пьянства. Что 12 лет тому назад уже сделано в Англии по вопросу о пьянстве», М. 1888 (без указания автора).
3 П. С. Алексеев, живший в то время в Чите, свои статьи посылал на имя П. И. Бирюкова. Какие его статьи подразумевает здесь Толстой, не установлено.
В письме от 27 января из Петербурга Горбунов предлагал три статьи в дополнение к книге Алексеева, сообщая, что списывается с Гольцевым о количестве недостающих листов.
218. Н. Н. Страхову.
1891 г. Января 25. Я. П.
Спасибо за ваше письмо,1 дорогой Николай Николаевич. Еще не отвечаю на него, а пишу с просьбой: Пожалуйста, если это не представит для вас особенных трудностей и вы здоровы, исполните это и поскорее: я вместе с другим делом начал, или скорее продолжаю, писать об искусстве, но не об одном искусстве, но об искусстве и науке, и мне нужно ходячее, признанное определение228 229 науки. Если бы несколько, тем лучше. Хотя бы косвенное, но авторитетное. Неужели нет, как и религии. Вероятно, Я ведь так дерзок, что прошу вас выписать мне такое или такие определения и прислать мне. Если бы случилось таковое же вам известное опред[еление] искусства, то пришлите и это, хоть в этом не особенно нуждаюсь.2 Обнимаю вас.
Л. Толстой.
На обороте: Петербург. У Торгового моста, дом Стерлигова. Николаю Николаевичу Страхову.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 422—423. Дата определяется почтовыми штемпелями и пометой Страхова на письме.
1 Письмо неизвестно.
2 См. т. 30 — «Историю писания и печатания трактата и статей об искусстве».
219. М. М. Лисицыну.
1891 г. Января 27. Я. П.
Очень рад был бы быть полезным вашему изданию, любезный Михаил Михайлович, но имени моего я вам не советую выставлять, т[ак] к[ак] это повлечет неизбежно запрещение; написать же что-либо для вашей газеты едва ли успею — так много дела начатого и так мало уже времени. Советовать вам ничего не могу. Знаю одно, что денежные дела очень опасны — и могут затянуть и погубить, как ничто иное, душевное спокойствие и задержать движение истинной жизни. И потому, любя вас, советую как можно быть осторожнее с этой стороной дела.1 Лучше всего отстранить ее от себя совершенно. — Еще советую вам обратиться к Лескову,2 прося его помощи. Он одинаковых со мной взглядов и любит людей, а не русских или немцев.
Адрес его: Николаю Семеновичу Лескову, Фурштатская, 50, кв. 4.
Помогай вам бог служить ему.
Л. Толстой.
На конверте: Дерпт. Михаилу Михайловичу Лисицыну.
Впервые опубликовано в альманахе «Литературная мысль», II, Пгр. 1923, стр. 202—203. Датируется по почтовому штемпелю. На последней,229 230 пустой, странице письма написано и зачеркнуто Толстым несколько начальных слов письма к Ф. Эвансу, см. письмо № 228.
Ответ на письмо Лисицына от 24 января 1891 г., в котором Лисицын излагал соображения относительно издания предполагаемой газеты, просил совета Толстого и разрешения выставить его имя в качестве сотрудника.
1 См. письмо № 208.
2 Н. С. Лесков в письме от 7 февраля 1891 г. отсоветовал Лисицыну издавать газету, считая время для этого неблагоприятным, и просил не втягивать Толстого в это «несерьезное», «несолидное» и «неприличное» дело (см. А. И. Фаресов, «Против течений», СПб. 1904, стр. 250—251). В тот же день Лесков писал об этом и Толстому (см. «Письма Толстого и к Толстому», Гиз, М.—Л. 1928, стр. 96—97). Издание газеты не состоялось.
220. Д. А. Хилкову.
1891 г. Января 28. Я. П.
Нынче утром получил письмо от H. Н. Ге (младшего), в к[оторое] он вложил ваше к нему, а вечером получил и ваше ко мне. Я внимательно перечел два раза оба пиcьма и понимаю всё отдельно, но не понимаю общего духа всего, не понимаю мотива вашего недовольства. Вы говорите: единение. Но единение возможно только в истине. Для того, чтобы найти единение с людьми, не нужно итти навстречу друг другу, навстречу людям, а нужно всем итти к богу или истине. Там только единение, и не с тем, с кем я хочу или предполагаю, что у меня должно быть единение, а с тем, кто пришел туда же, куда и я. —
Я себе представляю1 мир огромным храмом, в кот[ором] свет падает сверху к самой середине. Чтобы сойтись, надо всем итти на этот свет, и там мы все, приходя с разных сторон, все сойдемся и — с совсем неожиданными людьми. И в том-то и радость. Так вот этого единения и этим средством мы можем и должны искать; и помогать в этом друг другу нельзя. То же, что вы говорите о необходимости формы жизни, совершенно справедливо; но мало сказать — необходимость, надо сказать неизбежность формы. Если кто живет отдельно, или люди живут вместе матерьяльно, или только духовно вместе (как я полагаю,2 что живу с вами, и вы с другими), то непременно есть форма этой жизни. И смотреть на эту форму, определить ее очень неудобно, да и вредно. Другие пускай смотрят и определяют форму, в к[оторой] я живу, а мне надо жить. —230
231 Еще вы нехорошо говорите, что когда придет нищий, некогда справляться, увеличивается ли любовь и т. д. Ведь вы знаете, что я сказал это не для того, чтобы рассуждать, ничего не делая, а для того, чтобы, если есть сомнение в своей деятельности, по этой мере прикинуть свою деятельность. И потому скажу, взяв ваш же пример, что если насыпаешь ковш с досадой, или если тот, кому насыпают ковш, ожидал не ковш, а меру, и принимает его с досадой, то деятельность эта неправильная. —
Не пойму, почему вы недовольны собой и другими и чего вы хотите. Недовольство собой — не другими — мне кажется должно быть, и я часто утешаюсь тем, что не совсем еще пропал, что постоянно недоволен собой; но я знаю, чем я недоволен — своими определенными гадостями, в избавлении от которых никто мне помочь не может и работа над кот[орыми] составляет мою жизнь. О среде же, в кот[орой] я живу, о внешних условиях моей жизни я не забочусь, п[отому] ч[то] знаю опытом, что та или другая среда, те или другие условия вытекают из моей большей или меньшей близости к Христу, к истине. Я живу так, ка[к] я живу, не п[отому], ч[то] меня застало просветление в тяжелых, трудных условиях (как я думал прежде), а оттого, что я дурен. Насколько я лучше буду и бываю, настолько лучше среда и внешние условия. Если бы я был свят, среда и внешние условия были бы идеальные, я бы жил так, как я представляю себе жизнь ученика Христа — нищим бродягой, слугою всех, и я не отчаиваюсь и теперь достигнуть этого, потому что это все-таки в моей власти. Стать лучше, ближе к истине, вследствие внешних условий так же нельзя, как нельзя сесть на палку, взяться за нее руками и поднять себя. Внешние условия, форма жизни, единение, всё это последствия внутреннего совершенствования — приближения к Христу. Ищите ц[арства] б[ожия], к[оторое] внутри вас есть, и правды его, а остальное приложится вам. Может быть, я ошибаюсь и отвечаю вам на то, что вы не спрашиваете. Тогда простите. Писал любя, думая о вас и желая, если бы мог только, быть вам полезным.
Напишите подробнее о Любиче. Рассказа Лескова3 нет еще. Поклон жене и всем вашим.
Л. Толстой.
Печатается по копии рукой П. И. Бирюкова. В этот текст вносятся исправления по копии В. Г. Черткова (исправления оговорены в примечаниях) Почти полностью впервые напечатано в журнале «Всемирный231 232 вестник» 1906, 9, IV, стр. 6—8. Датируется на основании почтового штемпеля «Плиски, 27 января 1891» на конверте письма H. Н. Ге (сына) к Толстому и ответного письма к нему Толстого № 221.
Письмо Хилкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 В копии П. И. Бирюкова: представил. Исправляется по копии В. Г. Черткова.
2 В копии П. И. Бирюкова: понимаю. Исправляется по копии В. Г. Черткова.
3 «Под Рождество обидели».
* 221. Н. Н. Ге (сыну).
1891 г. Января 28. Я. П.
Спасибо за письмо. Посылаю назад Хилковское. Я ему [написал] длинно и от души, не знаю, удастся ли ответить на то, что он спрашивает. Меня очень радует ваше письмо.
Есть эта одна линия, этот единый путь, на котором на одном получается успокоение и уверенность, но трудно удержаться на нем. Уж только бы знать, когда на этом пути и когда соскакиваешь с него. Для меня это такое ясное, определенное внутреннее ощущение, когда я хоть на короткое время попаду на путь. Радостно, твердо, спокойно и, главное, дружелюбность к людям. Вы, верно, знаете тоже. Спасибо зa рисунок картины. Мне очень нравится. Но, разумеется, всё дело в осуществлении лица, фигуры.
Жена уехала в Москву, и Таня — бедная, не спокойная — поехала слушать какую-то певицу.1 Мы одни с Машей — темные.2 Вчера было радостное, как всегда, письмо от Марьи Александровны. К ним прибился старик татарин. Он им работает, они его обшивают, обмывают и кормят.3 Вот христианские робинзонки. И Пятницу им бог послал.4 Что ваше дело? Бог даст, затихнет. Я говорю о крещении детей. Хилков говорит — форму. Да как же мы, вы увидите и определите свою форму. Вот проживем жизнь, помрем, и добрые люди увидят, если захотят, форму нашей жизни. Поедете к Хилкову? Хорошо бы. Ему нужно. Ведь это так кажется, что он тверд, а ему нужно, как и всем нам, поддержка. Вчера Мар[ья] Алекс[андровна] прислала письмо к ней Дунаева. Как вы говорите, что мое письмо вам пригодилось, так дунаевское письмо помогло мне. Просить, искать поддержки вне себя — не надо, потому что нельзя, но,232 233 зная, что она есть, испытав ее действие, нельзя отказывать в ней. Он зовет. Если есть деньги — поезжайте. Целуйте и кланяйтесь всем вашим. Письмо отца получил. Все радуемся увидать Анну Петровну. Ну, пока прощайте.
Л. Т.
Печатается по копии М. Л. Толстой с неверной датой «20 января 1891 г.». Датируется на основании почтового штемпеля получения письма Ге и упоминания этого письма Толстого под датой «28 января» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на недатированное письмо Н. Н. Ге (сына) с почтовым штемпелем «Плиски, 26 января 1891», в котором Ге писал о своих разногласиях с Д. А. Хилковым в вопросах веры и жизни и сообщал о новом варианте картины его отца «Совесть».
1 Татьяна Львовна вместе с матерью и братом Львом были в Москве на концерте, слушали «Крейцерову сонату» в исполнении скрипача И. В. Гржимали (1844—1915) и пианистки С. К. Познанской (ДСАТ, II, стр. 3).
2 «Темными» С. А. Толстая называла последователей Толстого.
3 См. прим. к письму № 224.
4 Пятница — один из героев книги Д. Дефо «Робинзон Крузо».
* 222. Н. Н. Ге (отцу).
1891 г. Января 29. Я. П.
Радуюсь всей душой на вашу работу, дорогой друг. Не торопитесь. Забудьте выставку.1 Не хорошо приписывать важность своим работам, но беда и пренебрегать ими. Да вы всё это лучше меня знаете. Я по Количкиному рисунку понял живописность картины. И он отлично пишет, что хорошо тем, что Иуду жалко. Это главное. Если это достигнуто, то это всё. Это надо, чтобы было. Что это Рубан себя бранит. Его письмо ставит настоящий вопрос.2 И ответа на него настоящего еще нет. Я только пытаюсь это сделать. Ну, пока прощайте, обнимаю вас.
Л. Т.
Печатается по копии М. Л. Толстой. В машинописной копии AЧ указывается, что это письмо является припиской к письму Толстого к H. Н. Ге (сыну) от 28 января (см. предыдущее письмо). Датируется на основании упоминания о нем под датой «29 января» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Письмо Ге, на которое отвечает Толстой, неизвестно.233
234 1 H. Н. Ге спешил окончить свою картину «Совесть» к девятнадцатой выставке «передвижников», которая открылась в Петербурге 9 марта 1891 г. в помещении Общества поощрения художеств.
2 См. письмо № 211.
223. С. А. Толстой от 29 января 1891 г.
224. М. А. Шмидт и О. А. Баршевой.
1891 г. Февраля 1? Я. П.
Спасибо вам, дорогие М[арья] А[лександровна] и Ольга Алексеевна, что продолжаете радовать нас вашими письмами. Вы так хорошо живете (я говорю о внешней форме жизни), что всякий раз, как получаю ваши письма, робею, распечатывая и начиная читать, как бы не узнать, что жизнь ваша изменилась. Но, слава богу, всё идет хорошо, и вы, христианские робинзонки, еще нашли своего Пятницу — Али, которому передайте мой привет.
Я говорю о внешней форме жизни, потому что она только одна подвержена изменению независимо от нас. Об этом предмете, о взаимной зависимости внешней формы и внутреннего содержания приходилось думать и говорить последнее время по случаю разных перемен в жизни так называемых общинников. Форма жизни, я думаю, не всегда, но большей частью зависит от внутреннего содержания, так что из ста случаев в 99-й хорошая, правильная жизнь будет последствием хорошего, нравственного состояния. Так это у вас. Но никогда хорошее, нравственное состояние не зависит от внешних условий. И сколько ни ставь себя человек, нравственно стоящий низко, в условия жизни, которые выше его нравственного состояния, он от этого не станет выше, а скорее напротив. И наоборот, человек, ставший нравственно высоко, непременно образует вокруг себя формы жизни, соответственные его высоте. Я часто обманывал себя прежде, думал противное, думал, что если формы моей жизни безнравственны и я не могу изменить их, то это происходит от особенно несчастных случайностей, но теперь я знаю, что это происходит только оттого, что я по своим нравственным силам не готов, не имею права на лучшие условия. Думать обратное, сваливать на внешние условия есть страшно вредный234 235 самообман, парализующий силы, нужные для истинной жизни, т. е. для движения по пути истины и любви.
Мы недавно про это переписывались с Хилковым и говорили с Машей. Количка Ге был у нас, и очень радостно было наше свидание. Дедушка Ге пишет Иуду1 и, сколько я знаю, — будет очень хорошо. Я всё стараюсь писать свое — о непротивлении злу, о церкви и о воинской повинности,2 и всё мало подвигаюсь — сил мало; но и то, что есть, хорошо и служить можно.
Жена нынче вернулась из Москвы и сообщила известие о Дунаеве, что он очень был болен и очень похудел, очень страдал. У него была накостница (на челюсти) и ему выпиливали.
Как хорошо, что вы прислали его письмо. Оно помогло мне духовно. Нам всем надо так-то помогать друг другу. Не знаю, что вам переслать. Что, переслала Маша статью «Зачем люди одурманиваются»? Англичанин, бывший у нас (он живет в Петербурге), взял и перевел и напечатал в английском журнале, а с английского перевели в Новое время.3 Я не видел еще. Что будет готово и стоит того, будем посылать вам. Пишите побольше и поподробнее о себе. Статью Лескова4 посылаю. Редко меня что так трогало. Целую вас.
Л. Толстой.
Печатается по рукописной копии из AЧ. Автограф сгорел. Отрывок письма впервые опубликован в журнале «Голос минувшего» 1919, 5—12, стр. 177. Полностью опубликовано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», М. 1929, стр. 34—36. Дата копии «3 февраля 1891 г.», означающая, повидимому, день получения письма, изменяется на основании сопоставления слов письма: «Жена нынче вернулась из Москвы» с записью в дневнике С. А. Толстой 4 февраля, по которой видно, что она вернулась в Ясную Поляну 1 февраля (ДСАТ, II, стр. 3—4).
Ответ на письмо М. А. Шмидт от 4 января из Сочи, в котором она писала о своей жизни и сообщала, что с ними живет старик-татарин Али, который зашел к ним в непогоду и решил остаться жить с ними, помогая им в хозяйстве.
1 Картина «Совесть».
2 «Царство божие внутри вас».
3 Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?», переведенная Э. М. Диллоном, была напечатана под заглавием «Wine drinking and tobacco smoking» в февральском номере лондонского журнала «Contemporary Review» за 1891 г., откуда была переведена на русский язык и появилась в «Новом времени» 1891, №№ 5354, 5355 и 5357 от 24, 25 и 27 января.
4 Рассказ «Под Рождество обидели».
225. А. В. Жиркевичу.
1891 г. Февраля 3. Я. П.
Не отвечал вам, дорогой Александр Владимирович, на первое письмо, п[отому] ч[то] мне казалось, что на всё, что вы спрашиваете, мною или отвечено в том, что я писал в своих книгах, или я не могу ответить.
1То же с вопросами последнего письма — о воспитании и детях: учение Христа, — я думаю, — даст ответ на вопрос, как жить самому, и это указание, путь жизни, отвечает на все возможные отношения — к родителям, жене, детям, злым, добрым. Ведь, в сущности, всё сводится к своим поступкам. Так и с детьми нет другой формы отношений, как и со всеми людьми: уважение, любовь, правдивость и, разумеется, не насилие и не страх. Во всем — ищите ц[арства] б[ожия] и правды его, а остальное приложится вам.
Я очень рад был получить от вас письмо, а то мне б[ыло] тяжело оставить вас без ответа, а отвечать не мог.
1Дорогой А[лександр] В[ладимирович], моего учения нет никакого; есть учение Хр[иста], и оно всё в Евангелии, и тот, кто будет искать истины для себя, перед богом, только тот найдет всё там, и вы найдете там и в своем сердце.
А что я для себя нашел, я написал в книгах. Если это кому пригодилось, я рад. Так вы ищите без страха. Там всё благо, хотя и иное, чем то, что мы часто называем благо.
Любящий Л. Толстой.
На обороте: Вильно, Военно-окружной суд. Александру Владимировичу Жиркевичу.
Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 428.
Датируется по почтовому штемпелю и упоминанию об этом письме под датой «3 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на письма Жиркевича от 28 декабря 1890 г. и от 24 января 1891 г. В первом Жиркевич писал о своих колебаниях: следует ли ему оставаться на тяготившей его службе военного прокурора, имея на своем иждивении большую семью, или отказаться от службы. В том же письме он просил сообщить ему, как Толстой определяет искусство. Во втором — просил написать о воспитании.
1 Абзацы редактора.
* 226. Гамильтону Кэмп[беллу] (Hamilton Camp[bell]). Черновое.
1891 г. Января 27 — февраля 6. Я. П.
D[ear] S[ir].
I am very glad to avail myself of the opportunity of answering your questions sensibly.
1) Do I accept the miraculous element in the gospel narratives?
I think that to accept or to believe the miracles of the gospel is a complete impossibility for a sane person in our times. We cannot believe the miracles not because we wish, or we do not wish to believe in them, but because such narratives, having a certain meaning for people of the 4-th century, have none for us. If Christ in body ascended the sky, he is ascending it still and never will reach the seat at the right hand of his father. And the same stands for all the miracles of the gospel. I think that the faith in the miracle excludes the faith in the teaching. If Christ could make all men healthy and rich (if he could make wine out of water, he could make all men rich) he should have done it instead of teaching men how to be blessed without health and riches. Those who accept the miracles, accept them only because they do not want to accept the teaching.
2) The divinity of Christ?
The chief meaning of the definition of God is that He is a being different from man, above him and therefore if I say that man is God, I say a contradiction, just as if I said: spirit (the definition of which is something that is not matter) — spirit is matter. Christ being God is a belief that can be kept only by people who do not want to accept his teaching. If Christ is man the chief purport of his advent is his teaching and if I accept Christ as teacher I must follow his doctrine, but if he is God his teaching is only a little part of his significance. The chief thing is the story of his relation to the Father, the punishement of innocent people, the atonement, the sacrements, the church, the pope and so on, but not his teaching which cannot be accepted by the clergy, because it destroys at once their position and shows that their vocation is only a pretence to feed at the cost of the people.
3) About personal immortality?
I think that in this life internal experience shows us that the less we live our personal life, the more we feel sure of immortality,237 238 and the reverse, so that by analogy we must think that immortality must coincide with complete renunciation of self.
I said all I thought about this matter in the last chapters of my book «On Life».
4) I not only believe that a life founded on the laws of Jesus, as they are expressed in the sermon on the mount, is to be realized very soon, but I am convinced that it is the sole escape of our Christian humanity from the total destruction, and that we are come just now to such a crisis that we will be obliged to accept those laws as our rule. Moreover I think that as it is plain that if everybody would follow the laws of Jesus, the Kingdom of God would have been come. So it is the duty of all of us to live so now, as if those laws were ruling in our world, and therefore it is said thus: «[The] Kingdom of God is within you».
My letters get often lost. You would oblige me very much to tell me that you have received my letter.
Yours truly
Leo Tolstoy.
Милостивый государь.
Очень рад воспользоваться случаем, чтобы внимательно ответить на ваши вопросы.
1) Допускаю ли я в евангелии чудотворную сторону?
Я думаю, что принять или верить евангельским чудесам здравому человеку в наше время совершенно невозможно. Мы не можем верить чудесам не потому, чтобы желали или не желали верить им, но потому, что подобные повествования, имея некоторое значение для людей 4-го столетия, для нас не имеют никакого значения. Если Христос во плоти вознесся на небеса, то он и до сих пор продолжает возноситься, и никогда не достигнет места одесную отца. То же самое относится ко всем евангельским чудесам. Я думаю, что вера в чудо исключает веру в учение. Если бы Христос имел возможность сделать всех людей здоровыми и богатыми (что было бы ему возможно, если он мог претворять воду в вино), он сделал бы это вместо того, чтобы научить людей тому, как быть блаженными помимо здоровья и богатства. Принимающие чудеса принимают их только потому, что не хотят принимать учения.
2) Божественность Христа?
Главный смысл понятия о боге в том, что он — существо, отличное от человека, выше его; и потому, если скажу, что человек есть бог, то скажу противоречие; всё равно как если бы я сказал, что дух (отличительный признак которого — тот, что он не материя) — дух есть материя. В божественность Христа верят лишь те, кто не хотят принять его учение: если Христос — человек, то главная цель его пришествия есть его учение; если я признаю в Христе учителя, то я должен следовать его учению, но если он — бог, то его учение представляет лишь маленькую238 239 частичку его значения. Главное заключается в рассказе об его отношении к отцу, наказании невинных людей, искуплении, таинствах, церкви, папе и т. д., но не в его учении, которое не может быть принято духовенством, потому что оно сразу разрушает их положение, обнаруживая, что профессия их служит только предлогом для того, чтобы кормиться на счет народа.
3) О личном бессмертии?
Я думаю, что в этой жизни наш внутренний опыт показывает нам, что чем меньше мы живем личной жизнью, тем несомненнее мы уверены в бессмертии, и наоборот; так что, судя по аналогии, мы должны думать, что бессмертие должно совпадать с полным отречением от себя. Всё, что я думаю об этом предмете, я высказал в последних главах моей книги «О жизни».
4) Я не только думаю, что жизнь, основанная на законах Христа, как они выражены в нагорной проповеди, должна быть осуществлена очень скоро, но убежден в том, что в этом единственное избавление нашего христианского человечества от полного уничтожения и что мы теперь дошли до такого критического положения, что мы будем вынуждены руководствоваться этими законами. Больше того, я думаю, что вполне ясно, что если бы все следовали законам Христа, то царство божие давно бы наступило. И потому мы все обязаны жить теперь же так, как будто законы эти управляют в мире. Вот почему и сказано: «Царство божие внутри вас есть».
Письма мои часто теряются. Вы сделали бы мне большое одолжение, если бы сообщили мне о получении этого письма.
Искренно ваш
Лев Толстой.
Печатается по черновику рукой Т. Л. Толстой. Датируется по почтовому штемпелю: «Москва, 26 января 1891» на конверте письма Кэмпбелла и записи в Дневнике Толстого 6 февраля о происшедшем за время 27 января — 6 февраля (см. т. 52, стр. 6).
Ответ на письмо ученика колледжа «Свободной церкви» («Free Church») Гамильтона Кэмпбелла (окончание фамилии в письмах адресата неразборчиво) из Глазго от 28 января нов. ст. 1891 г. на английском языке, сообщавшего, что он «занят в настоящее время приготовлением доклада к митингу теософского общества» на тему: «Религия Толстого», и задававшего в связи с этим ряд вопросов.
Кэмпбелл ответил письмом от 5 марта нов. ст. 1891 г.
* 227. Алонзо Холлистеру (Alonzo Hollister).
1891 г. Января 27 — февраля 6? Я. П.
Dear Friend and Brother. I received your long letter and have read it with interest, but I must confess that all your arguments taken from John's revelation do not convince me. I do not consider239 240 that book as a moral guide. I think that God’s revelation must be simple and able to be understood by the simplest soul. In general as I told you before, dear friend, I agree completely with your practice of life, but not with your theory, especially about spirits. — I hope that the open expression of my thoughts will not lessen your kind disposition to me.
With brotherly love yours truly
Leo Tolstoy.
Дорогой друг и брат, я получил ваше длинное письмо и прочел его с интересом, но должен признаться, что все ваши доводы, взятые из Откровения Иоанна, не убедили меня. Я не считаю эту книгу нравственным руководством. Я думаю, что откровение божие должно быть просто и понятно самой простой душе. Вообще, как я вам прежде говорил, дорогой друг, я вполне согласен с вашим образом жизни, но не с вашей теорией, особенно относительно духов. Надеюсь, что откровенное выражение моих мыслей не уменьшит вашего доброго расположения ко мне.
С братской любовью, искренно ваш Лев Толстой.
Печатается по недатированной машинописной копии «К неизвестному» из AЧ. Сохранился черновик, написанный рукой T. Л. Толстой. Дата определяется письмом Холлистера от 9 декабря нов. ст. 1890 г., на конверте которого имеется помета Толстого: «Я отвечу», и записями в Дневнике Толстого: 20 декабря 1890 г., 2 января и 6 февраля 1891 г., где Толстой, вспоминая происшедшее между 26 января и 6 февраля, отметил: «Написал письма.... двум шекерам» (см. т. 52, стр. 6).
Алонзо Холлистер (Alonzo Hollister, p. 1830) — американец, шекер.
Ответ на письмо Холлистера от 9 декабря нов. ст. 1890 г. о спиритизме и о доказательстве его на основании Апокалипсиса.
* 228. Фредерику Эвансу (Frederic W. Evans).
1891 г. Января 27 — февраля 6? Я. П.
D[ear] F[riend] and B[rother]. Thank you for your kind letter. It gave me great joy to know that you approve of my ideas on Christianity (I received the tracts that you sent me1) and was very satisfied with your views upon the diffe[re]nt expressions of religious sentiments suiting the age of those to whom they are directed. I received the tracts you sent me and read them not only with interest but with profit, and cannot criticise them because I agree with everything that is said in them. There is only one question that I should wish to ask you. You are, as240 241 I know non-resistants. How do you manage to keep communial, but nevertheless property? Do you acknowledge the possibility for a Christian to defend property from usurpators? I ask this question because I think that the principle of non-resistance is the chief trait of true Christianity and the greatest difficulty in our time is to be true to it. How do you manage to do so in your community? With sincere respect and love yours truly
Leo Tolstoy.
I received your tracts, you say in your letter that [you] have sent me books, did you mean them or did you send me books calling the tracts books? I received more than a year the Oregon paper World Advance Thought, sometimes. I saw in it your articles.2 I am very thankful to the editor for sending this paper; in every № I get spiritual nourishment if it were not for some spiritistic tendency that is foreign to me. Who is the editor and how long ago has it been founded?
[I] agree with all its religious views. I like this paper very much.
Дорогой друг и брат. Благодарю вас за ваше доброе письмо. Большой радостью было для меня узнать, что вы разделяете мои мысли о христианстве (я получил брошюры, которые вы мне послали1), и был очень удовлетворен вашими взглядами относительно различных способов выражения религиозных чувств, сообразно с возрастом тех, к которым они обращены. Я получил брошюры, которые вы мне послали, прочел их не только с интересом, но и с пользой, и не могу их критиковать, потому что согласен со всем, что в них написано. Есть только один вопрос, который мне хотелось бы вам поставить. Вы, насколько я знаю, непротивящиеся. Каким же образом вы удерживаете хотя бы и общинную, но все-таки собственность? Считаете ли вы допустимым для христианина защищать собственность от посягателей на нее? Задаю этот вопрос, потому что считаю, что принцип непротивления — главная черта истинного христианства, и самое трудное в наше время это быть верным ему. Как же справляетесь вы с этим в вашей общине? С искренним уважением и любовью искренно ваш
Лев Толстой.
Я получил ваши брошюры. Вы говорите в вашем письме, что послали мне книги. Именно ли о книгах вы писали, или вы послали брошюры, назвав их книгами? Я получал время от времени, более года тому назад, орегонский журнал «World’s Advance Thought». Иногда встречал в нем ваши статьи.2 Очень благодарен издателю за присылку этого журнала. В каждом номере я черпаю духовную пищу, если бы только не спиритическая тенденция, которая мне чужда. Кто его издатель и как давно241 242 он основан? Соглашаюсь со всеми его религиозными взглядами. Очень люблю этот журнал.
Печатается по недатированной копии. Сохранился черновик, написанный рукой Т. Л. Толстой. Дата определяется письмом Эванса от 6 декабря нов. ст. 1890 г., на которое отвечает Толстой, и записями в Дневнике Толстого, приведенными в примечаниях к предыдущему письму (см. т. 52, стр. 6).
Фредерик Эванс (Frederic W. Ewans, 1808—1893) — американец, шекер, проповедник, автор ряда брошюр и листовок, посвященных изложению мировоззрения секты шекеров и ее истории.
Ответ на письмо Эванса (на английском языке) от 6 декабря нов. ст. 1890 г., в котором Эванс извещал, что послал Толстому свои брошюры, излагающие учение шекеров и историю этой секты, а также высказывал свои мысли о некоторой общности их взглядов с Толстым.
На конверте письма Эванса помета Толстого: «Я отвечу». Ответ Толстой начал на отдельном листе, но, написав несколько строк, оставил его. На этом листе потом Толстой написал письмо к М. М. Лисицыну (см. № 219).
1 В конверте письма Эванса от 6 декабря сохранились следующие листовки: Elder F. W. Evans, «Universal Republic. A shaker Pronunciamento» (Старейшина Ф. В. Эванс, «Всемирная республика. Манифест шекеров»), его же, «The Country. A new Earth and new Heavens» («Государство. Новая земля и новое небо»).
2 В сохранившихся в яснополянской библиотеке номерах этого журнала статей Эванса нет.
* 229. Л. Л. Толстому.
1891 г. Февраля 1—6. Я. П.
Мама приехала очень довольная тобой, что всегда очень радостно, и рассказывала про твой детский рассказ.1 Мне нравится и сюжет, и не боязнь перед избитостью его. Ничто не ново и всё ново. — Интересно будет прочесть. Прочел я указанные рассказы Сливицкого.2 Я еще прежде читал Сав[ву] Грудцына.3 Мне не понравилось: ничего живого своего, всё....4 — описания по описаниям, а не по своим исследованиям, н[а]п[ример] то, что медведь идет на человека, поднимаясь на задние лапы5 и т. п., и это нехорошо. Да, очень мил рассказ Урок смирения — трогательно. Это лучше всего.
У нас живется хорошо — очень согласно. И это радостно. Я всё работаю свою работу с большим напря[жением]....4 не прочь также украсть; потом встретил Игната, к[оторый] и не242 243 знал, что его Серега в Москве, и жаловался на то, что взял деньги у Антошки и не спросясь уехал в Москву;6 потом встретил ребят, идущих из школы с часословами, потом наш учитель в школе, к[оторый] стави[т] на колени, бьет и учит молитвам, и так ясно сделалось бедственное положение народа, от кот[орого] старательно скрывается....4
Датируется записью в дневнике С. А. Толстой 4 февраля 1891 г. о ее пребывании в Москве с 27 января по 1 (?) февраля (ДСАТ, II, стр. 3—4) и записью в Дневнике Л. Н. Толстого 6 февраля, где он, вспоминая происшедшее с 27 января по 6 февраля, отметил: «Написал.... Леве» (см. т. 52, стр. 6).
Ответ на письмо Л. Л. Толстого без даты, привезенное из Москвы С. А. Толстой, в котором Лев Львович извещал, что посылает Толстому для отзыва рассказы А. М. Сливицкого, прося обратить особое внимание на «Савву Грудцына».
1 «Монте-Кристо».
2 Александр Михайлович Сливицкий (1850—1913), педагог и писатель (псевдоним: «Алексей Котельва»); писал преимущественно для детей.
3 «Повесть о Савве Грудцыне». Сочинение Алексея Котельвы, типогр. И. Д. Сытина, М. 1890 — вольная переработка русской повести XVII века.
4 Далее оборвана страница. Многоточие редактора.
5 См. рассказ Сливицкого «Разоренное гнездо» (начало гл. XV «Опасность»), М. 1882 и Гиз, М.—Л. 1923, стр. 60.
6 Крестьянин деревни Ясная Поляна Игнат Севастьянович Макаров и его два сына — Сергей и Антон. Сергей взял сорок рублей из кармана висевшей одежды Антона и поехал посмотреть Москву.
230. H. Н. Страхову.
1891 г. Февраля 6. Я. П.
Очень благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за скорый и обстоятельный ответ. Это почти то, что мне нужно. Очень неопределенные определения.1 Я имел еще несколько с других сторон — из энциклопедических лексиконов, и Грот2 прислал мне свое, и все приблизительно одинаково неточны. Как давно хочется выразить всё, что я думаю об этом. И кажется совсем ясно, а всё не выходит достаточно точно и кратко. — Писать об этом длинно, а поговорить с вами об этом хотелось бы: именно хотелось бы ответить на вопросы: 1) Прилагает ли наука, отличительный признак которой состоит в строгой проверке своих положений, в критике, прилагает ли наука эту243 244 критику к тем положениям, на основании к[отор]ых известные знания, сведения выделяются из всего бесконечного количества передаваемых людьми от поколений к поколениям знаний? 2) Не могут ли те признаки, к[оторые] по существующему определению составляют особенность научного знания, быть приложены ко всякого рода сведениям — самым ничтожным и даже вредным? 3) Не составляет ли отличительное свойство науки особенность не формы, но содержания? — 4) И если есть такое по содержанию знание, к[оторое] выделяется из всех других, как особенно важное и заслуживающее то особенное уважение, к[оторое] свойственно приписывать науке, то не отличается ли по этому же содержанию и истинное искусство от не истинного?
И много тому подобных вопросов представляется, ответы на к[оторые] мне ясны. Очень мне это представляется важным.
Вашу статью3 читал, как и всегда о таких предметах, с большим удовольствием, и пользой, и уважением. —
Понравилась мне и статья Бекетова,4 но только отчасти. Мне понравилось его подразделение борьбы. Не понравилось же его желание обосновать нравственность на эволюции, что совершенно невозможно, п[отому] ч[то] нравственность не только бесполезна, но всегда вредна, и для индивида, и для рода, для всего матерьяльного, точно так же как огонь всегда вреден для сала свечи. Нельзя служить двум господам и никак нельзя помирить одно с другим. Как бы мне хотелось это ясно высказать. —
Работается очень мало, а живется не совсем дурно. Книга Макса Мюллера5 интересует меня, и я приобрету ее. —
Прощайте пока.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано с искажением в ПС, стр. 423—424. Датируется на основании пометы H. Н. Страхова и записи в Дневнике Толстого 6 февраля (см. т. 52, стр. 6).
Письмо Страхова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Для своей работы о науке и искусстве Толстой просил Страхова прислать ему одно или несколько «ходячих, признанных определений науки».
2 Николай Яковлевич Грот (1852—1899), философ-идеалист, профессор, редактор журнала «Вопросы философии и психологии». См. т. 64, стр. 31.244
245 3 «О законе сохранения энергии». См. прим. к письму № 157.
4 А. Н. Бекетов, «Нравственность и естествознание» — «Вопросы философии и психологии» 1891, 5, стр. 1—67.
5 В 1891 г. в Петербурге вьшла впервые в русском переводе книга Макса Мюллера «Наука о мысли». Первое английское издание: «The science of thought», 1887.
Ответ Страхова из Петербурга от 21 февраля напечатан в ПС, стр. 225—226.
231. В. Г. Черткову от 9 февраля 1891 г.
232. Д. Р. Кудрявцеву.
1891 г. Февраля 10. Я. П.
Любезный брат!
Всегда с особенной радостью откликаюсь на такое обращение, особенно с человеком, как вы, с которым, судя по вашим писаниям, чувствую духовное единство.
Я прочел ваши обе статьи1 и очень сожалею, что вы нашли повод разногласия в том, что высказано в «Послесловии». Мне кажется, что этого повода нет и что мысли, высказанные там, не только не разногласят с вашими, но подтверждают и включают их в себе.
Я не возражаю и не спорю, но мне хотелось бы разъяснить недоразумение.
Учение Христа отличается от всех других учений, и в особенности от церковного, именно тем, что оно никакое состояние не считает оправдывающим, а говорит: «будьте совершенны, как отец ваш небесный». Чистота, перенесение жизни в настоящий момент, отсутствие забот о завтра, самоотвержение — всё это идеалы такие же, как совершенный круг, совершенная прямая, которых нет в действительности, но которые необходимы для приближения к ним.
Все же веры языческие и церковные состоят в утверждении того, что известное понимание истины и известная степень исполнения окончательны и вполне оправдывают человека.
Христианство — это вечное движение и приближение к совершенству; церковные веры, какие бы они ни были рациональные — застой.245
246 Заповеди Христовы не предписывают идеала, а только привывают на ту ступень, ниже которой не должно опускаться ученикам Христа, если они хотят быть учениками его, и которая может и должна быть исполнена.
1) Не сердиться и не презирать брата, это ступень, которая может и должна быть исполнена. Идеал — всегда любить его.
2) Не прелюбодействовать, это ступень, которая может и должна быть исполнена. Идеал — быть вполне чистым.
3) Не клясться — та ступень, которая должна быть исполнена. Идеал — быть вполне свободным и не связанным ничем.
4) Не противиться злу, насилию людей, это та ступень, которая должна быть исполнена. Идеал — не противиться насилию, злу животных.
5) Не иметь врагов — та ступень, которая должна быть исполнена. Идеал любить врагов.
Сознание идеала не только не мешает, но без этого сознания всё учение делается мертвой буквой, хотя и стоящей выше учения церковного, но столь же мертвым, как и то.
Пожалуйста, дорогой брат, подумайте об этом спокойно и вникните любовно в мои доводы. Они, как вы понимаете, набросаны как попало, в расчете на такое любовное ваше вникновение в их смысл.
Пока прощайте. Дай бог вам всего хорошего.
Любящий вас Л. Толстой.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Впервые опубликовано Д. Р. Кудрявцевым в Швейцарии, с датой «12 февраля 1891 г.», в его книге: «Первое Presto» и «Идеалы Христа», коим предшествует письмо Льва Николаевича Толстого к автору и ответ на него», изд. М. К. Элпидина, Carouge (Genève) 1893, стр. 3—4. В России опубликовано в журнале «Вестник теософии» 1911, № 4 от 7 апреля, стр. 51—52. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 11 февраля (см. т. 52, стр. 7) и упоминанием этого письма под датой «10 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Дмитрий Ростиславович Кудрявцев (ум. 1906) — богатый помещик Николаевского уезда Херсонской губ.; был близок с сектантами-штундистами; занимался распространением запрещенных произведений Толстого, составил несколько сборников из выдержек из Дневников и писем Толстого, напечатанных под заглавием: «Л. Н. Толстой. Спелые колосья. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого», изд. М. К. Элпидина, Женева 1894—1896 (вып. 1 — 1894, вып. 2 и 3 — 1895, вып. 4 — 1896). Распространение Кудрявцевым нелегальной246 247 литературы вызвало недовольство властей. В 1894 г. у него был сделан обыск, а сам он был подвергнут двухнедельному аресту и потом взят под следствие. Желая избежать дальнейших преследований, переселился в Швейцарию, где и умер.
Ответ на письмо Кудрявцева из г. Николаева от 24 января.
1 Рукописи статей Д. Р. Кудрявцева: «Первое Presto. (Размышления вагонного пассажира, выслушавшего исповедь Василия Гавриловича Позднышева)» и «Идеалы Христа». Обе статьи написаны по поводу «Крейцеровой сонаты» Толстого.
233. Ф. В. Гецу.
1891 г. Февраля 11? Я. П.
Файвель Бенцелович.
Хотя я и не мог успеть ответить вам до 5-го, т[ак] к[ак] получил ваше письмо (заказное) 4-го, я и не нуждался в этом, п[отому] ч[то] вполне предоставляю вам печатать мои письма, уверенный в том, что напечатаете их если не вполне, то так, что пропущенное не изменит сущность мысли, к[оторую] я хотел выразить. Благодарю вас за присланные книги. Я прочел в них то, что меня интересовало, и нашел в них много интересного.
Желаю успеха вашему изданию1 в смысле воздействия на умы и души людей в духе умиротворения и единения. Если увидите Соловьева, передайте ему мой привет и извинения, что не отвечаю ему.2
Желаю вам всего лучшего.
Лев Толстой.
Печатается по публикации в журнале «Летопись» 1916, 3, стр. 222. Впервые опубликовано (без фразы о Соловьеве) в книге: Ф. Г[ец], «Слово подсудимому!», СПб. 1891, стр. XIV. Датируется на основании пометы на письме рукой Геца.
Ответ на письмо Геца из Петербурга от 28 января 1891 г., в котором Гец просил разрешения Толстого напечатать его письмо к Соловьеву и Диллону от 15 марта 1890 г. (см. № 34) в составленной им брошюре «Слово подсудимому».
1 Ф. Г[ец], «Слово подсудимому!», СПб. 1891.
2 Толстой имеет в виду письмо В. С. Соловьева от 29 января 1891 г. Напечатано в «Литературном наследстве», 37-38, М. 1939, стр. 271.
* 234. А. Н. Дунаеву.
1891 г. Февраля 11. Я. П.
Очень мне жалко вас, дорогой Александр Никифорович. Я знаю, как это бывает больно: не знаешь, как поступить, и хочется себя винить, и не знаешь за что; а знаешь, что если вызвал дурное в другом — вражду к себе, то виноват сам. — Это хуже зубной боли; но зато и еще нужнее бывает для души. «И радуйтесь, когда возненавидят и поносят вас». Как ни страшно это сказать, но это одно утешало и подкрепляло меня в такие минуты. — Трудно радоваться этому, главное п[отому], ч[то] всегда чувствуешь, что в этом есть твоя вина — что-нибудь не для бога, а для себя, для славы людской делал — и тогда нельзя радоваться своему греху; но если нет греха или был и понял его и раскаялся в нем, то можно радоваться поношению от людей, должно даже, п[отому] ч[то] если не можешь быть радостным, когда поносят тебя, значит, что нет у тебя опоры в боге.
По письму Аф[анасьева]1 я узнал нечто общее с Алекс[андром] Петровичем2 в его дурное время и дурные минуты. Такие люди больше, чем кто-либо другой, невменяемы, и в эти именно минуты, когда они больно оскорбляют нас, особенно страдают. Нынче ходил и думал, как бы хорошо было выучиться относиться к людям, ничего не требуя от них. Не то, чтобы быть низкого о людях мнения, но не требовать от них того, что мне нужно, приятно или желательно — не требовать от них никаких поступков, не перестать или меньше любить человека, кот[орый] ничего не делает и ничего не говорит, не высказывает ни малейшего сочувствия мне или моим взглядам. Ничего не требование от людей это предшествующее любви состояние. —
Вчера получил прекрасное радостное письмо от Хилкова.3 Он совершенно согласен с тем, что искать нужно не единения между людьми, а только того, чтобы быть в истине; истина же неизбежно соединит всех. —
Пока прощайте. Привет Алмазову — если он не уехал.
Л. Толстой.
На конверте: Москва. Ильинка, Торговый банк.
Александру Никифоровичу Дунаеву.248
249 Небольшой отрывок впервые опубликован в журнале «Единение» 1916, 1, столб. 5. Дата копии из AЧ подтверждается почтовым штемпелем на конверте.
Ответ на письмо Дунаева от 5—6 февраля 1891 г., в котором Дунаев писал о своих отношениях с одним из знакомых ему молодых людей, Федором Федоровичем Афанасьевым, страдавшим запоем. Афанасьев досаждал Дунаеву своими просьбами о денежной помощи.
1 Дунаев прислал Толстому письмо Афанасьева.
2 Александр Петрович Иванов (1836—1911), переписчик Толстого, страдавший запоем. См. т. 63, стр. 214.
3 Это письмо Д. А. Хилкова неизвестно.
* 235. С. Н. Толстому.
1891 г. Февраля 12. Я. П.
Мужики вернулись от Давыдова,1 кажется, удовлетворенные; он им написал, что нужно, и научил.
У нас все из детей больны, кроме Саши — и Таня (5 дней жар — инфлуенц[а], теперь лучше, но слаба), и Маша (живот болит), и Андрюша,2 и Ваничка3 — жар маленький (тоже инфлуенца), и Миша4 (зубы болят). А впрочем, всё хорошо, п[отому] ч[то] всё очевидно не опасно. Я с девочками собираюсь, как только все здоровы и погода хороша, к вам, и вот всё не удается. То, что меня в печати то слишком высоко поднимаю[т], то слишком спускают, часто тяжело и нарушает душевное спокойствие. Надо быть всегда на стороже, чтобы не поддаваться ни тому, ни другому. Кроме того, сейчас мы не могли бы приехать, п[отому] ч[то] у нас Анненкова Курская; но она завтра или послезавтра едет. У Маши до 10 чел[овек] ребят и девочек собралось,5 ходят в комнату Алекс[ея] Митрофан[овича]. Лева писал, что в субботу проедет к Илье, а оттуда уж к нам. Ренана6 не посылаю, п[отому] ч[то] он может понадобиться мне для моего писанья. Если живы будем, я привезу его. Писанье мое идет очень плохо, вероятно п[отому], ч[то] весь уж вышел, выдохся.
Ну пока до свиданья все вопче.
Л. Т.
Датируется по содержанию и записям в дневнике С. А. Толстой о болезнях детей 7—13 февраля (см. ДСАТ, II, стр. 5—8).249
250 Сергей Николаевич Толстой (1826—1904) — брат Л. Н. Толстого. См. т. 59, стр. 30—32.
Ответ на письмо С. Н. Толстого от 9 февраля, просившего помочь крестьянам села Пирогово, с которых один «разбогатевший мужик» неправильно взыскивал уплаченный уже ими долг.
1 Толстой направил пироговских крестьян к тульскому прокурору Н. В. Давыдову.
2 Андрей Львович Толстой (1877—1916), сын Толстого.
3 Иван Львович Толстой (1888—1895), сын Толстого.
4 Михаил Львович Толстой, сын Толстого.
5 Мария Львовна и, одно время, Татьяна Львовна Толстые учили крестьянских детей. После запрещения становым школы, устроенной в отдельном домике у въезда в усадьбу, Мария Львовна продолжала негласно собирать детей в одной из комнат большого дома, где помещался в то время учитель Андрея и Михаила Львовичей, Алексей Митрофанович Новиков. О нем см. т. 64, стр. 326.
6 О книге Ренана «L’avenir de la science» см. в письме № 196.
* 236. А. Н. Дунаеву.
1891 г. Февраля 16. Я. П.
Большая к вам просьба, дорогой Александр Никифорович. Если некогда, то, пожалуйста, не делайте. Нужно мне список наук. Нельзя ли выписать сколь можно больше — несколько десятков, сотен (всех, я думаю, тысячи) — с кратким означением их предмета: богословские, коммерческие (есть такие), лесные, сельскохозяйственные, юридические, естественные, математические, филологические, медицинских, ветеринарных и т. д.1
Почерпнуть это можно прежде всего в программах учебных заведений высших и потом в энциклопедиях и в специальных сочинениях. Один такой список был бы уже сильный аргумент в пользу критического отношения к тому, что называется наукой.
Ну, простите.
У нас всё благополучно. Я нынче с Машей еду к брату в Пирогово,2 на недельку, если бог даст.
Л. Толстой.
На конверте: Москва. Торговый банк. Александру Никифоровичу Дунаеву.250
251 Дата определяется почтовым штемпелем и записями в Дневнике Толстого 17 февраля (см. т. 52, стр. 12) и в дневнике С. А. Толстой 16 февраля о предполагаемой поездке в Пирогово (ДСАТ, II, стр. 9).
1 Список названий «наук» требовался Толстому для его статьи об искусстве. См. т. 30 — «Историю писания и печатания трактата и статей об искусстве».
2 Эта поездка не состоялась.
237. В. Г. Черткову от 16 февраля 1891 г.
238. H. Н. Страхову.
1891 г. Февраля 17. Я. П.
Получил вашу книгу об искусстве,1 дорогой Николай Николаевич, и очень вам благодарен за нее. Можно на нее положиться и ссылаться? — Там есть то, что мне нужно. Но не верится, чтобы можно было в таком важном деле удовлетворяться таким туманом.
Простите меня за то, что злоупотребляю вашей добротой ко мне. Просьба к вам. Если не сделаете, то не обижусь и также буду благодарен за все прежние услуги. Дело вот в чем: наш священник, враждебно относящийся ко мне (разумеется, по настроению свыше), обратился ко мне с просьбой о своем родственнике, и мне очень бы хотелось услужить ему и вот приходится пытаться вашими руками жар загребать. Мне-то это очень было бы приятно (услужить), да боюсь, что вам-то не будет приятно. Тогда простите. Дмитр[ий] Алексеич Зеленецкий, учитель гимназии (классик), уволен от должности из Ростова на Дону в 89 году за то, что его подозревали и на него донес его враг директор (он так думает) в том, что он писал какие-то неприятные анонимные письма Делянову.2 — От него требуют, чтобы он открыл, кто писал эти письма, а он ничего не знает и просит, чтобы был назначен над ним суд и чтоб его наказали, если он виновен; если ж нет, то чтобы его определили опять на службу, а то он отставлен и его никуда не принимают. Направления этот Зеленец[кий] либерального, любим учениками, и потому всё это очень похоже на правду. Не можете ли вы попросить кого надо об этом. Он через Кедрова,3 директора251 252 Филологич[еского] института (кажется), просил и подавал докладную записку Делянову в августе 90-го года. —
Живу по-маленьку; всё скучаю о том, что так много хочется писать и нет энергии и не пишется и всё каюсь, что скучаю, и стараюсь не скучать. Нынче приехал Ге с новой картиной.4 Интересно будет мнение ваше. Ничего не скажу. — Откуда бы почерпнуть перечень — чем пространнее, тем лучше — наук и обыкновенных и необыкновенных?5
Пока прощайте.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано с пропуском двух слов в ПС, стр. 424—425. Датируется на основании записей в Дневнике Толстого (т. 52, стр. 12) и в дневнике С. А. Толстой (см. т. II, стр. 9) 17 февраля о приезде Н. Н. Ге. На автографе помета Страхова «18 февраля 1891» — дата получения письма.
1 М. Schassler, «Kritische Geschichte der Aesthetik», Berlin 1872 (M. Шасслер, «Критическая история эстетики»). Книга эта нужна была Толстому для его работы об искусстве. См. т. 30, стр. 577.
2 Иван Давыдович Делянов (1818—1897), с 1882 г. министр народного просвещения, крайний реакционер, проведший ряд реформ в области народного образования, направленных к ограничению доступа в учебные заведения детей из народа.
3 Константин Васильевич Кедров (1827—1903), в 1873—1903 гг. директор Историко-филологического института; реакционер, сотрудник министра Д. А. Толстого по выработке устава классических гимназий.
4 H. Н. Ге заехал в Ясную Поляну по дороге в Петербург, куда он вез на выставку «передвижников» свою картину «Совесть».
5 Для статьи об искусстве.
Ответ Страхова см. в ПС, стр. 425—426.
239. А. И. Ярышкину.
1891 г. Февраля 18. Я. П.
Очень сожалею, что не могу исполнить ваших желаний, дорогой Александр — извините, не знаю отчества. — Денег я уже очень давно не имею никаких и ни на что их не употребляю. Признаюсь, мне всегда обидно, когда у меня просят денег. Если я считаю деньги злом, то я или не имею их, или если имею, то лгун и ко мне не следует обращаться. Статью свою я очень252 253 рад буду предоставить в ваше распоряжение, но после того, как она появится, как предисловие к книге Алексеева, для которого она предназначена.1 То, что она появилась в газете с английского, произошло по замедлению выхода книги Алексеева и против моего желания.2 Очень желаю успеха вашему обществу, но не удивляюсь, что много приходится бороться. Это удел всяких организаций. Еще раз благодарю вас за вашу дружбу к Дольнеру, которому передайте мой привет. Теперь вы могли полюбить его за него, а начали вы сношение с ним для меня, за что я очень благодарен вам. Желаю вам всего хорошего.
Лев Толстой.
Передайте, пожалуйста, мой привет Дольнеру. Я получил его письмо3 и благодарю его за него.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Впервые опубликовано в ПТС, II, стр. 120. Датируется на основании упоминания об этом письме под датой «18 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на письмо Ярышкина из Одессы от 14 февраля, в котором Ярышкин просил ссудить денег для общества трезвости и разрешить издание статьи Толстого «Для чего люди одурманиваются?».
1 Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?» вышла в Одессе в издании «Одесского общества для борьбы с пьянством» в 1891 г. Второе издание этой статьи было запрещено одесской цензурой.
2 См. прим. 3 к письму № 224.
3 См. письма №№ 192 и 195. Письмо Дольнера с почтовым штемпелем «Одесса, 10 января 1891 г.».
* 240. С. П. Софронову.
1891 г. Февраля 20. Я. П.
Я о воспитании никогда не писал, п[отому] ч[то] полагаю, что воспитание есть последствие жизни. Обыкновенно предполагается, что люди известного поколения знают, какими должны быть люди вообще, и потому могут их готовить к такому состоянию. Это совершенно несправедливо: люди, во 1-х, не знают, какими должны быть люди — могут в лучшем случае знать только идеал, к которому им свойственно стремиться, а во 2-х, люди воспитывающие сами никогда не готовы, не воспитаны, а сами, если они не мертвы, движутся и воспитываются. И потому всё воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, т. е. самому двигаться, воспитываться: только этим253 254 люди влияют на других, воспитывают их, и тем более на детей, с к[о]т[ор]ыми они связаны.
Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание.
Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей, вроде того есть наша медицина — как, живя противно законам природы, все-таки быть здоровым. Науки хитрые и пустые, никогда не достигающие своей цели.
Есть у меня в Москве приятель Ал. Никиф. Дунаев, он живет в Никольском переулке. Он, вероятно, не откажет вам указать, где вы можете найти те из моих писаний, которые вы не читали.1 Желаю вам всего хорошего.
Л. Толстой.
Печатается по рукописной копии. Датируется на основании упоминания об этом письме под датой «20 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Сергей Павлович Софронов (1863—1915) — учитель, сын фабриканта из Владимирской губ. Был лично знаком с Толстым, неоднократно посещая его и в Москве и в Ясной Поляне. Впервые обратился к Толстому с письмом от 3 апреля 1890 г. по поводу «Крейцеровой сонаты». Ответ Толстого неизвестен (см. «Список писем Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен»).
В письме от 4 февраля 1891 г. из Москвы, на которое здесь отвечает Толстой, Софронов просил написать по вопросу о воспитании детей; сообщал, какие книги и статьи Толстого он читал, и просил указать, где он может достать другие сочинения Толстого.
1 Последние две фразы, отсутствующие в рукописной копии, вставлены по машинописной копии из AЧ.
* 241. П. И. Бирюкову.
1891 г. Февраля 21. Я. П.
Только что стал скучать, что давно нет от вас писем, милый друг Поша, как пришло вчера ваше письмо. Мы получили его на Козловке, куда проводили все: и С[офья] А[ндреевна], и Маша стариков Ге, т. е. Н[иколая] Н[иколаевича] и Ан[ну] Петро[вну]. Они проездом в Петерб[ург] заехали к нам с картиной. Картина представляет Иуду: лунная ночь254 255 (куинджевская), 1 Иуда стоит на первом плане и смотрит вперед на кучку людей, уж далеко с факелами уводящих Хр[иста]. Хорошо, задушевно, но не так сильно и важно, как «Ч[то] е[сть] истина?».
За это время был у нас Колечка и оставил самое радостное впечатление. С Хилк[овым] тоже переписывались. То, что вы пишете о форме, справедливо, за исключением слова «не могу не заботиться о форме и радоваться...»2 Радоваться — да, но не заботиться. Да это вы сами знаете. А не радоваться нельзя. Это всё равно, что если из окон вагона видишь, что картина не переменяется, знаешь, что не едешь, и плохо. Хорошо ваша жизнь сложилась, как кажется, но как это сделалось? Откуда взялись старик с женой и своячницей?3 Напишите поподробнее. И как общаетесь с домом? И в чем была и есть борьба? Если можно, напишите: нам это хочется знать. — Больше же всего меня интересует то, что у вас слагается в душе. Разумеется, не говорите, если еще нельзя выразить коротко и просто. Только бы давало спокойствие, твердость. А что свое должно быть — непременно; прекрасно у квакеров то, что молитва всякий раз и для каждого человека должна быть новая, своя — только это молитва, только это укрепляет.
У нас теперь И. И. Горбунов. Он вчера приехал; едет к Ч[ертковым]. Он всё такой же любовный и умный. А я вас осудил за Клобского. Он после вас б[ыл] у нас. И поразил нас своей переменой. Я почувствовал в нем близкого человека, и было очень радостно.
Письмо ваше, как мы получили на Козловке, прочла М[аша], а потом стал читать я. И подошла С[офья] А[ндреевна], и я стал читать ей вслух. Когда я прочел конец письма, где вы говорите о получении ее письма и о том, что хотели мне прислать, она этим огорчилась. Теперь же, когда я пошел писать письма, она сказала мне, чтобы на вопрос ваш, как относится к вам С[офья] А[ндреевна], я отвечал, что она относится всё по-старому и никогда не изменится. — М[аша] очень б[ыла] занята больными4 и собравшейся все-таки к ней (хотя на деревне есть школа) школой; но вчера школу ее прекратили, а больных все-таки много. Кроме того, мне переписывает, хотя я мало ей даю работы. Медленно идет моя работа. Ч[ертков] прислал мне черновые об искусст[ве], и я начал опять о науке и искус[стве]5 и оторвался от своей статьи о непрот[ивлении] злу, и опять остановился, и опять вернул[ся] к ст[атье] о непр[о]т[ивлении]255 256 злу. Весь поглощен этим. Много думаю, но подвигаюсь медленно. Ну, пока прощайте. Целую вас. Передайте мой поклон вашим сожителям в избе и в доме.
Л. Т.
Печатается по машинописной копии. Впервые две фразы из этого письма о картине Н. Н. Ге напечатаны в Б, III, стр. 187. Датируется на основании упоминания об этом письме под датой «21 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на письмо Бирюкова от 17 февраля 1891 г. из Ивановского, Костромской губ., в котором Бирюков писал о своей жизни и просил сообщить, как живет Мария Львовна и как «к ним» относится теперь Софья Андреевна.
1 Архип Иванович Куинджи (1842—1910), русский художник-пейзажист.
2 Бирюков писал, что «внешняя форма» жизни человека есть «следствие внутреннего содержания» этой жизни.
3 П. И. Бирюков взял к себе на иждивение больного старика-сапожника и его полуслепую жену и свояченицу, живших в двух верстах от хутора Бирюкова. Они прожили у Бирюкова около двух лет.
4 М. Л. Толстая принимала приходящих к ней за советом больных крестьян, а также сама ездила по окрестным деревням к тяжело больным.
5 См. т. 30.
* 242. Н. Н. Ге (сыну).
1891 г. Февраля 22. Я. П.
Спасибо за письмо, милый друг Количка.
Картина понравилась нам, но, разумеется не так, как последняя.1 Как хотите — всегда у меня при виде таких больших картин — неудовлетворение: больше от меня требуется того, что я могу дать. Если бы это была иллюстрация, гравюра, маленькое, а то это что-то большое, а впечатление маленькое. Я, впрочем, на живопись туп.
Как вы? Я был очень рад видеть Анну Петровну, но поразительно то военное положение, в котором она находится всегда относительно отца. Многое я узнал из того, что я знаю. Разумеется, виноваты мы. Мущина может понять, хотя сам не носил и не рожал, что и носить и рожать и тяжело, и больно, и что это дело важное, но женщина редкая, едва ли какая-нибудь может понять, что носить и рожать духовно новое жизнепонимание и тяжело, и дело важное. Они поймут это на минутку, но сейчас256 257 же забывают. И как только на сцену выступают заботы ихние, хоть хозяйство, наряды, так они не могут уже помнить о реальности убеждений мущин, и всё это кажется им выдумками не реальными в сравнении с пирогами и ситчиками.
Проводили их третьего дня на Козловку. Все ездили и Соф[ья] Андр[еевна]. А Таня уехала в Москву. Лева заболел, и она к нему поехала. У нас теперь Ив. Ив. Горбунов, знаете ли вы его? Очень хороший, умный и серьезный. Вчера получил и сейчас отвечал в Америку, члену одному «рыцарей труда» (есть такое общество в Америке против земельной собственности и за организацию труда2), с вопросами и выражениями сочувствия книге Бондарева, которая с французского переведена на английский3 и нравится им. Спрашивает, правда ли, что он мужик или только сын мужика? И не миф ли он?4
С Хилковым мы договорились до согласия и так хорошо. Вероятно, и вы договорились. А в особенности, коли съездите к нему, чего ему, кажется, очень хочется. Я всё плохо работаю, стараюсь замещать это тем, чтобы добрей хоть быть. Ну, пока прощайте. Поклоны Гапке, Парасе, Рубанам, Эльпидифоровне и Ковальскому.
Л. Т.
От Черткова получил письмо, — он ужасно рад вашему письму.5 Целую вас, милый друг, и все наши любят. Пишите.
Печатается по копии М. Л. Толстой. Дата копии.
Ответ на недатированное письмо Н. Н. Ге (сына), привезенное художником Ге.
1 «Что есть истина?».
2 «Knights of labor» («Рыцари труда») — общество, основанное в 1869 г. в Филадельфии рабочим-портным, бывшим масоном, Урием Стивенсом, ставившее своей задачей улучшение положения рабочих. Главными средствами борьбы за уничтожение капиталистического строя общество признавало бойкот, саботаж и стачки.
3 Книга Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца» была издана на английском языке под заглавием: «Labor. The divine command. Made known, augmented and edited by Count Tolstoy». Translated (from the French) by Mary Cruger, Chicago 1890 («Труд. Божественная заповедь. Сообщено, дополнено и издано графом Толстым». Перевод с французского Мэри Крюгер).
4 Толстой получил письмо от 10 февраля нов. ст. от члена Общества «Рыцарей труда», нотариуса Уивера (J. В. Weaver) из Yowa в Америке,257 258 в котором Уивер задавал ряд вопросов о Бондареве и об отношении к нему Толстого. Толстой ответил ему, но текст письма неизвестен.
6 Письмо В. Г. Черткова от 14 февраля.
* 243. П. И. Бирюкову.
1891 г. Февраля 23. Я. П.
Забыл ответить на вопрос вашего последнего письма: неприятного мне ничего не будет.1 В[аня] Горбунов просит сказать вам, что целует вас.
Л. Т.
На обороте: Кострома. Село Ивановское. П. И. Бирюкову.
Датируется на основании почтового штемпеля.
1 Бирюков в письме от 17 февраля сообщал Толстому, что у него есть возможность издать по-русски книгу Толстого «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий», и спрашивал, не будет ли это Толстому неприятно.
* 244. А. Н. Дунаеву.
1891 г. Февраля 24. Я. П.
Дорогой Алекс[андр] Никиф[орович].
Вчера приехала Леон[ила] Фом[инична]1 и рассказывала про вас, как вы взволнованы, непокойны, измучены, и мне очень жалко стало вас, захотелось помочь, если бы можно. Простите, если не кстати что скажу. Вы ведь знаете, что руководит мною одна любовь к вам. Знаю я, что вы измучены немилым трудом, занимающим лучшее время дня, но все-таки думаю, что можно облегчить себе крест, если кротко и смиренно нести его. Скажу то, что для меня облегчило: 1) не смешивать того, что люди называют христианством, с тем, что оно есть: так же спокойно относиться к явлениям лжехристианства, как относишься к магометанству, ламаизму; 2) что я писал уже вам и что мне много помогло — не требовать от других людей ничего, кроме того, что они дают, главное же не требовать понимания того, что сам понимаешь и чего они не то что не хотят, но не могут понять. Если бы они могли, то они поняли бы, а поняв258 259 бы, отдались этому так же, как и я, п[отому] ч[то] это истина, а она радостна. Они или оне не могут и страдают от этой невозможности, тем более, что чувствуют, что этого требуют от них, страдают и раздражаются, но главное страдают, и потому надо переноситься в них. И 3) надо верить (а чтобы верить, надо презирать себя, не приписывать себе никакой заслуги), надо верить в то, что дело божье — дело божье и делается и сделается, разумеется, не через меня одного. Если же мне доведется быть хоть немного участником, то считать это особенным счастьем, но никак не должным. Дело делается и сделается. Мое дело только, главное, не помешать, а быть готовым, коли понадоблюсь. —
Еще помогает мне молитва — молитва в минуты соблазна, такая молитва, к[оторая] напоминала бы мне, кто, что и зачем я и перед кем я. — Помогай вам бог, дорогой мой, всей душой люблю вас.
Л. Толстой.
На конверте: Москва, Ильинка. Торговый банк. Александру Никифоровичу Дунаеву.
Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 24 февраля 1891 г.: «Вчера приехала Анненкова» (т. 52, стр. 13).
1 Л. Ф. Анненкова. В конверте этого письма Толстого сохранилось письмо ее к Дунаеву, посланное вместе с письмом Толстого.
245. Я. П. Полонскому.
1891 г. Февраля 26. Я. П.
Благодарю вас за книгу1 и за дружеское письмо, дорогой Яков Петрович. Я прочел книгу, и больше всего — очень мне понравилось — первое стихотворение Детство.
Правда, что я иначе смотрю на стихи, чем как я смотрел прежде и как смотрят вообще; но я умею смотреть и по-прежнему. Мне давно уже хочется высказать пояснее и покороче, почему я смотрю иначе на искусство вообще, чем большинство, и почему не могу смотреть иначе; и теперь даже занят отчасти этим предметом.
Я слышал про вас от Страхова и рад был узнать, что живы и здоровы. Желаю вам всего лучшего. Передайте, пожалуйста,259 260 мой привет: вашей жене и бывшему мальчику, к[отор]ому Тургенев милый рассказывал сказки про незнайку.2
Л. Толстой.
На конверте: Петербург, Знаменская, дом 26.
Якову Петровичу Полонскому.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 218. Датируется на основании почтовых штемпелей. В АТ имеются два черновика этого письма.
Яков Петрович Полонский (1820—1898) — поэт. См. о нем т. 62.
Ответ на письмо Полонского от 16 февраля из Петербурга (см. «Летописи», 12, стр. 217).
1 Я. П. Полонский, «Вечерний звон», СПб. 1890.
2 Сын Полонского Александр, для которого Тургенев написал несколько сказок и стихотворение «Всезнайка». См. об этом воспоминания Я. П. Полонского «Тургенев у себя» — «Нива» 1884, 6.
246. В. В. Рахманову.
1891 г. февраля 28. Я. П.
Давно не испытывал такой радости, дорогой В[ладимир] В[асильевич], как ту, к[оторую] мне доставило ваше письмо. Мысли, чувства, к[отор]ые волнуют вас, те новые горизонты, к[отор]ые открываются вам, это то самое, что меня волнует, чем я живу, чем жил и живет последнее время Ге (младший) — (он недавно б[ыл] у нас), чем живет Хилков, с к[оторым] мы последнее время усердно переписывались, что вырастает перед Бирюковым, к[оторый] на-днях писал мне. Единство это не происходит от внешнего общения, а от внутреннего. Единственное истинное единение есть то, кот[орое] получается не вследствие искания единения, а вследствие того, что истина одна: Кто в истине, или близок к ней — те вместе. И потому это единение наше особенно радует меня. —
1У меня теперь И. И. Горбунов (он едет из Петерб[урга], где устраивал своего брата2 и семью его, к Чертк[овым]), и мы с ним вместе читали ваше письмо. Когда мы прочли то место, где вы говорите о том, что у Христа нет заповедей (вернее бы сказать; что учение его не в заповедях) и что Хр[истос] научил достижению ц[арства] б[ожия], к[отор]ое сделает невозможным260 261 нарушение заповедей, когда я прочел это, я напомнил ему то, что я говорил ему то же вчера. Именно, что учение Хр[иста] состоит в постановке идеала ц[арства] б[ожия], для достижения к[отор]ого нужно быть совершенным, как Отец, т. е. идеал совершенства внешнего и внутреннего, а что заповеди,
5 заповедей, суть только зарубки на этом бесконечном пути того места, ниже которого в настоящий период жизни человечества не следует, желательно, можно не спускаться. — Совершенство 1) в том, чтобы всех: Зулу, идиота, злодея, зверя, считать равными, братом, и любить, как любишь любимых. — Зарубка, заповедь, что не должно и можно не гневаться на брата,
2) в том, чтобы быть вполне чистым; зарубка не прелюбод[ействовать],
3) в том, чтобы быть вполне свободным, не связанным ничем;
зарубка не клясться,
4) в том, чтоб никогда не приложить насилия, ни для защиты другого и себя, ни против животного; зарубка не уничтожать зло силою.
5) Не иметь врагов; зарубка творить добро врагам.
3Не думайте, что я защищаю прежнюю точку зрения в Ч[ем] М[оя] B[epa].
Я не только не защищаю, но радуюсь тому, что мы пережили ее. — Вступив на новый путь, нельзя не обрадоваться тому, что первое увидал впереди себя. И простительно принять то, что на начале дороги, за цель пути. Но, подойдя ближе и только благодаря тому, что видел сначала, нельзя не радоваться тому, что увидал впереди бесконечную светлую даль.
3Ваше объяснение слабого места общин совершенно справедливо. —
3Теперь о государстве и отношении к нему. Опять вы совершенно правы, или, скорее, думаете то самое, что я, но тут нужно ограничение. Не отрицать государства, т. е. насилия, мы не можем, как не можем не отрицать блуда, независимо от того, пользуемся ли мы тем и другим. — И, разумеется, что вполне свободным от государства, как вполне свободным от блуда, может считать себя только святой, и что отвращение к тому и другому и есть стимул истинной жизни — стремления к святости. Но опасно впасть в обратную ошибку, в к[оторую] впадает Сютаев,4 сколько я понял из вашего письма и помню261 262 его взгляды; сказать себе, что я не могу быть чист от насилия (п[отому] ч[то] пользуюсь им) и потому могу в известных пределах участвовать в нем, могу подать становому о лошади и т. п. Это всё равно что сказать себе: я не могу быть чист от блуда помыслов и даже падений, и потому пойду в дом, и потом буду целомудренно долго жить. — Это тот самый страшный путь, к[оторый] называется компромисс, сделка. — Христ[ианское] учение тем отличается от всех других, что оно не в заповедях, а в указании идеала полного совершенства и пути к нему, и это стремление заменяет для ученика Хр[иста] все заповеди и оно же указывает ему все соблазны. Отступает учен[ик] Хр[иста] от пути, указанного Хр[истом], не по обдуманному рассуждению, а по бессилию или, скорее, по отношению сил, стремящейся к идеалу и противодействующей. И потому равнодействующую этих двух сил нельзя никогда определить, как это пытаются делать любители компромиссов — она всегда переменяющаяся, особенная для каждого человека и даже для одного и того же человека в разное время. Всегда, всякую минуту, всякий пусть стремится ко всей истине, к полному освобождению от похоти, к полному освобождению от насилия, участия в нем и пользования им; а что выйдет — никто не знает. Но никогда пусть не содействует ни разврату, ни насилию, и в светлую минуту (не в увлечении) не пользуется ими. В прежней вере и вообще в нехристианских верах заповеди стоят впереди (они так стояли для нас по В ч[ем] м[оя] в[ера] — отчасти), в христианстве заповеди стоят назади, т. е. в известный период развития человечества сознание его говорит ему — стремись к полному совершенству, но, стремясь вперед, не спускайся ниже известных ступеней. Христос сказал: не сердись, не ругайся, не блуди, не клянись, не борись силою, не воюй, 1800 лет тому назад, как, я думаю, 6000 лет тому назад сказано б[ыло]: не убивай, не ешь людей и т. п. — Христианство тем и велико, что оно не выдумано Христом, а что оно есть закон вечный, к[отор]ому следовало человечество гораздо прежде, чем закон этот был выражен, и к[отор]ому оно всегда будет следовать и следует теперь в лице тех, к[отор]ые не знают или не хотят знать христианства. Разница только в том, что для знающих смысл христианства жизнь полна смысла и радости. Христианская жизнь не в следовании заповедям, не в следовании учению даже, а в движении к совершенству, в уяснении всё большем5 и большем этого262 263 совершенства и всё большем и большем приближении к нему. И сила жизни христианской не в различной степени совершенства (все степени равны, п[отому] ч[то] путь бесконечен), а в ускорении движения. Чем быстрее движение, тем сильнее жизнь. И это жизнепонимание дает особую радость, соединяя со всеми людьми, стоящими на самых различных степенях, а не разъединяя, как это делает заповедь. Разбойник на кресте и Закхей живут более христианской жизнью, чем апостолы и т. п. —
6То, что вы говорите об отношении к государству, когда его отрицаешь, а сам пользуешься им, совершенно справедливо, но из этого не следует, чтобы можно б[ыло] признавать его и мириться с ним, а следует только сознание своей слабости, негодности (как вы верно говорите), следует смирение, смирение, приближающее к любви.
6Целую вас и люблю всей душой. Привет вашим сожителям. Напишите еще. —
Л. Толстой.
Впервые опубликовано с пропусками в журнале «Минувшие годы» 1908, 12, стр. 298—300. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 1 марта (см. т. 52, стр. 15).
Письмо Рахманова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Абзац редактора.
2 Н. И. Горбунов.
3 Абзацы редактора.
4 Василий Кириллович Сютаев в 1891 г. собирался переселиться в тверскую общину Дугино. См. В. И. Скороходов, «Из воспоминаний старого общинника» — «Ежемесячный журнал» 1914, 11, стр. 80—82; 12, стр. 81—82.
5 Ударение Толстого.
6 Абзацы редактора.
247. В. Г. Черткову от 28 февраля 1891 г.
248. М. М. Лисицыну.
1891 г. Марта 3. Я. П.
Начну с последнего вопроса вашего: какие браки лучше — браки по увлечению или по рассудку? Я высказал в «Послесл[овии]» то, что я не могу не думать и что будет думать всякий, кто263 264 серьезно отнесется к этому вопросу, п[отому] ч[то] это одна истина и другой нет. Брак всякий хуже безбрачия, и потому стремиться должно только к безбрачию, и потому не может быть вопроса о браке по разуму; всякий брак противен разуму и может быть совершен только по чувству, по увлечению.
1Страдания ваши, к[отор]ым всей душой сочувствую, испытав их и любя вас, происходят от ложного взгляда, о котором я тоже писал, состоящего в том, что может быть общение с женщиной, которое не есть брак. Всякое общение с женщиной есть брак. И если вы будете смотреть так (действительно верить в это), то вам труднее будет пасть, а потом, павши раз, вы уже не будете вновь падать, а будете там, куда вы упали, т. е. будете жить в плотском общении (в браке) с той женщиной, с к[оторой] вы пали, и, живя с ней, будете стремиться с ней вместе выдти из этого состояния падения, подняться к целомудрию. Всё происходит от ложного и безобразного представления, что те женщины, с к[оторыми] мы падаем, не люди и мы ничем не обязаны к ним. Если вы пали с проституткой, возьмите ее и живите2 с ней как муж с женой — женитесь на ней, и это будет много лучше, чем то, что с вами теперь. Эти падения не что иное, как браки по рассудку. И если рассудок будет не содействовать, а противодействовать увлечению, то борьба будет много выгоднее для вашей высшей природы.
Написал от всей души всё, что перед богом думаю. Помогай вам бог. За вашу откровенность полюбил вас больше.
Л. Толстой.
На конверте: Дерпт. Русская публичная библиотека.
Михаилу Михайловичу Лисицыну.
Впервые опубликовано с ошибками в альманахе «Литературная мысль», Пгр. 1923, стр. 203—204. Дата определяется почтовым штемпелем и упоминанием этого письма под датой «3 февраля» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на письмо М. М. Лисицына из Дерпта от 24 февраля 1891 г. с вопросами о половой жизни и о браке.
1 Абзац редактора.
2 Написано: живете
* 249. C. H. Толстому.
1891 г. Марта 3—5? Я. П.
Пожалуйста, не сердись на меня за то, что не скоро отвечал тебе. У меня завелся порядок отвечать сразу на набирающиеся письма, а теперь долго не набиралось много, а на твое я сейчас не ответил, в чем и виноват. У нас всё слава богу. Все переболели и теперь оживают. — Я хотел было воспользоваться путьком поехать к тебе на денек, да не знаю, соберусь ли.1 Но очень хочется повидаться. Я собою очень недоволен и оттого мрачен, что ничего не пишу. Прощай. Бог даст скоро увидимся.
Л. Т.
Датируется приблизительно. Упоминание о том, что все переболели, позволяет считать его следующим за письмом к С. Н. Толстому от 12 февраля, № 235. По Дневнику С. А. Толстой все дети переболели к 25 февраля, и письмо, очевидно, было написано не ранее этого числа. Записи в Дневнике С. А. Толстой 25 и 28 февраля отмечают, что Толстой был в эти дни «спокоен, здоров и весел» и что «давно не было у него такого здорового и бодрого вида» (ДСАТ, II, стр. 12—13). Упадок самочувствия и работоспособности Толстой отмечает в записях своего Дневника 3 и 5 марта (см. т. 52, стр. 16).
Письмо С. Н. Толстого, на которое отвечает Л. Н. Толстой, неизвестно.
1 Толстой ездил в Пирогово только в середине августа. См. Дневник, запись 27 августа (т. 52, стр. 50).
250. В. Г. Черткову от 5 марта 1891 г.
* 251. Р. Ф. Финку.
1891 г. Марта 8 или 9. Я. П.
Очень рад содействовать вашему предприятию. Все мои народные рассказы можете печатать. Боюсь только, что в этом вам воспрепятствует цензура. Поэтому вам лучше для этого избрать и другие книжки.
Какие книжки и как приобрести право их издания? На эти вопросы ответит вам лучше всего и, наверное, примет живейшее участие в вашем деле Владимир Григорьевич Чертков. Я пишу ему с этою же почтою об этом. На его выбор можете вполне положиться,265 266 так как он этими делами уже несколько лет специально занимается, и наши взгляды на этот предмет одинаковы.
От всей души желаю вам успеха.
Лев Толстой.
Печатается по копии рукой Р. Ф. Финка. Датируется на основании даты первого письма Финка к Толстому из Харькова от 6 марта 1891 г. и письма Толстого к Черткову от 9 марта 1891 г. См. т. 87, письмо № 283.
Р. Ф. Финк, заведующий харьковским складом фабрики земледельческих машин и орудий «Эмиль Липгарт и Ко», обратился к Толстому с письмом от 6 марта 1891 г., в котором излагал свой план «наиболее широкого распространения дешевых и простых машин между крестьянами». Считая, что стремление распространить машины может быть достигнуто только рекламой, Финк писал: «Я предполагаю издать для бесплатной раздачи несколько тысяч книжек, учебных или беллетристических, продаваемых в настоящее время от 5—20 коп., прилагая их по нескольку штук при каждом исполненном мною заказе или раздавая таковые десятками через крестьянские общества». Не доверяя своему выбору, Финк просил Толстого дать ему совет, какие сочинения будут наиболее подходящими для его цели и куда ему обратиться за получением права печатать эти сочинения.
252. В. Г. Черткову от 9 марта 1891 г.
253. Л. Ф. Анненковой.
1891 г. Марта 12. Я. П.
Очень рад был получить ваше письмо, дорогая Леонила Фоминична. —
Это вам показалось, что я избегаю вас или отдаляюсь: мне, напротив, с вами всегда спокойно и радостно. — То, что вы говорите о моем неудовольствии за то, что переписывается дневник — справедливо; я себя бранил за это и успокоился. Это наша дурная, слабая минута, которых бывает все-таки больше, чем твердых. А у меня, слава богу, напротив, всё радостнее и радостнее в семье.
Дунаеву я тогда же написал,1 но не получил ответа. Вчера был у нас Никифоров2 (вы, верно, слышали о нем — очень хороший человек, женат на Засулич, сестре знаменитой,3 и с 8 челов[ек] детьми живущий трудовой суровой жизнью).
Он рассказывал про Дун[аева] то же, что вы: он произвел на него в его семье тяжелое впечатление — споры с женой.266
267 Очень мне жаль его, но надеюсь, что он выйдет победителем из этого испытанья: как хотелось помочь ему, насколько могу.
Нарочно под конец оставил самое важное, о вашем брате.4 Я думаю, что и для жены брата, и для вас, и для вашего брата, было бы очень хорошо, если бы вы могли ходить за ним. Не думаю, чтобы ваш муж воспротивился, если положение брата серьезно опасно, каким оно кажется. Впрочем, вам виднее. И когда отречешься совсем от своей воли, что вы, вероятно, и сделаете, прежде чем предпринять что-либо, то решение будет принято то, к[оторое] должно.
У нас вчера приехал американск[ий] издатель газеты большой,5 и я ужасно устал от него: надо говорить на языке, на к[отором] говоришь с трудом, а человек по взглядам своим вполне мирской, мало интересен для меня. А между тем оставить его одного, уйти, когда он ни с кем говорить не может и приехал для этого — совестно. Соня и Таня помогают мне. Писанье мое было стало подвигаться, и это для меня большая — не радость, а сознание жизни; но теперь два дни и не принимался.
Я был у Сергея6 — положение его ужасно, но мне кажется, и Маша вчера б[ыла] у него и подтверждает мое мнение, что он может поправиться. Он очень жалок. Поклон вашему мужу.
Любящий вас
Л. Толстой.
Впервые опубликовано почти полностью (с ошибками) в ПТС, I, стр. 198—199. Дата определяется почтовым штемпелем отправления «почтовый вагон, 13 марта 1891» и записью в Дневнике Толстого 13 марта о приезде американца «3-го дня» (т. 52, стр. 19).
1 См. письмо № 244.
2 Лев Павлович Никифоров.
3 Вера Ивановна Засулич (1849—1919), революционерка, в 1878 г. стрелявшая в петербургского градоначальника Трепова. Состояла членом партии «Черный передел»; одна из основательниц в 1883 г. социал-демократической группы «Освобождение труда». Со второго съезда социал-демократической партии примкнула к меньшевикам.
4 Александр Фомич Бенкевич (ум. 26 марта 1891), страдавший сахарной болезнью, вызвавшей гангрену и ампутацию ноги по колено.
5 Крильмэн, редактор нью-йоркской газеты «New York Herald». О нем см. письмо № 260.
6 Крестьянин из деревни Телятинки, долго страдавший от гангрены ноги, пациент М. Л. Толстой. Был помещен Толстыми в начале апреля в тульскую больницу, где умер 11 апреля 1891 г.
* 254. В. П. Золотареву.
1891 г. Марта 14. Я. П.
Спасибо, что написали мне, дорогой Василий Петрович. Я много вспоминал о вас и болел сердцем, что ничего не знаю. Только мало вы пишете. Ничего не знаю про ваше духовное состояние и про жизнь, отношения с людьми, а всё это очень мне близко сердцу.
Немецкой статьи обо мне1 у меня нет, но я приищу что-нибудь вам интересное и пришлю. Сейчас Маша уехала к брату, а книги и еще кое-что, что хочу прислать вам, я не найду без нее. Да, вы очень одиноки, дорогой В[асилий] П[етрович], и давайте переписываться чаще. Я думал, что вы переписываетесь с Поповым или Хохловыми.2 Попов у Черткова (Воронежск. губ., Россоша). Пишите ему. Хохлов3 в Москве, пишите к Дунаеву и через Д[унаева] к нему. От Рахманова недавно получил очень хорошее письмо, в к[отором] он осуждает внешность общин и, очевидно, идет в своих нравственных требованиях дальше. То же движение, я знаю, происходит и в Алехиных,4 и в Хилкове, и в Новоселове, и Ге, с к[оторым] я виделся недавно. То же я чувствую, хотя и слабо, в себе: именно потребность деятельности только для бога с исключением всего того, что во всякой деятельности есть личного и тщеславного.
Вы спрашиваете о моей истории О[тца] С[ергия]. Там я хотел бы выразить эти две различные основы деятельности. То он думал, что живет для бога, а под эту жизнь так подставилось тщеславие, что божьего ничего не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги.
Я не пишу этого теперь. Все силы, к[оторых] мало, отдаю на писанье статьи о непротивл[ении] злу, о церкви и воинской повинности, и почти не подвигаюсь. А знаю, что есть, что сказать, и нужно это сказать.
Что же вы хотели писать об иконах?5 Предмет очень важный; но сказать, что всё православие в иконах — слишком. Есть еще кое-что. Ну, пока прощайте. Напишите же поподробнее о себе и мне делайте вопросы, чтобы я знал, что вам интереснее всего знать.
Л. Толстой.268
269 Дата машинописной копии из АЧ.
Письмо Золотарева, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 R. Löwenfeld, «Gespräche über und mit Tolstoy», Berlin 1891 (P. Лёвенфельд, «Разговоры с Толстым и о Толстом»). Золотарев просил прислать эту статью для практики в немецких переводах.
2 Хохловы Петр Галактионович (см. письмо № 313) и Николай Галактионович — бывший сельский учитель, участник земледельческих общин.
3 Петр Галактионович, в то время студент Московского высшего технического училища.
4 Братья Алехины: Аркадий, Алексей и Митрофан Васильевичи.
5 О своем намерении написать «небольшую статью об иконах» Золотарев сообщал Толстому в письме от 30 октября 1890 г.
255. С. А. Толстой от 15 марта 1891 г.
256. В. Г. Черткову от 18—19 марта 1891 г.
257. Е. И. Попову.
1891 г. Марта 19. Я. П.
Письмо ваше очень тронуло меня, дорогой Евг[ений] Ив[анович]. Мне очень жалко стало вас, особенно жалко, п[отому] ч[то] ваши страданья близки мне. Все мы тем же страдаем — все мы несем грехи своего прошедшего, своих живых и умерших братьев. И слава богу, что мы страдаем, т. е. чувствуем страдание. Страдание и есть искупление. Разве можем мы, испорченные до мозга костей и воспитанием, и привычкой, и праздностью, и исключительностью положения, из к[оторого] мы, частью по слабости, частью по другим причинам, не можем выйти, — разве можем мы не страдать. Все мы тем или другим способом, с женою, без жены, делом или помыслом оскверняемся и страдаем из-за этого.
Для того, чтобы не страдать, нам надо не знать своего греха — иметь любовниц, жен, быть влюбленным и всё это считать хорошим, чистым,1 как мы прежде это считали; а мы, слава богу, не можем этого. И остается нам одно — падать, пока не окрепнем, и страдать, всё так же страдать, ни на минуту не спуская требования от себя.269
270 Вы пишете, что апатия, лень. У меня то же самое. Всё это от того же. Только бы не перестать быть себе гадким. —
Утешать вас не умею и не могу: одного желаю, чего и себе: не перестать страдать. —
Теперь о другом, хотя и имеет отношение к этому же, — знаете ли, что я замечаю последнее время, — то, что путь наш (всех нас, идущих по одному пути) становится или, скорее, начинает казаться особенно трудным. Восторг, увлечение новизны, радость просветления прошли. Возможность осуществления становится всё трудней и трудней, разочарования в возможности осуществления всё чаще и чаще. Недоброжелательство людей и радость при виде наших ошибок всё сильней и сильней. Всё больше и больше людей отпадающих. Мне кажется, теперь такое время. И я рад, что знаю это. Все эти явления меня не огорчают. Главное же, я рад тому, что внутреннее чувство — сознание пути жизни и истины ни на один волос не ослабевает. Напротив, крепнет. Одна слабость, хочется испытания, жертвы. Знаю, что грех, но хочется. — Как вы? Любящий вас
Лев Толстой.
Печатается по рукописной копии из AЧ. Впервые опубликовано с датой «1891 г.» в ПТС, II, стр. 120—122. Дата определяется записью в Дневнике Толстого 24 марта (см. т. 52, стр. 24) и упоминанием под датой «19 марта» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
1 В машинописной копии из AЧ и в ПТС, II, вместо «чистым» напечатано «честным».
258. Л. П. Никифорову.
1891 г. Марта 20. Я. П.
Получил рукопись1 и прочел. Художественности мало. Не натурально. Весь смысл в различии отношения к религии мущины и женщины. А это верно. Я не помню, зачем я просил вас прислать рукопись. Кажется, затем, чтобы послать ее Ч[ерткову] и напечатать. Она все-таки годится, по моему мнению, для Поср[едника], и я пошлю ее.
Если я ошибся, то напишите мне.
Л. Т.
На обороте: Тверь. До востребования. Льву Павловичу Никифорову.270
271 Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 84—85. Дата определяется почтовым штемпелем «Тула, 21 марта 1891».
1 Рукопись переведенного Л. П. Никифоровым рассказа французского писателя, участника Парижской коммуны, Феликса Пиа (Félix Pyat, 1810—1889) из эпохи раннего христианства (см. прим. Л. П. Никифорова в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 84).
2 В письме к В. Г. Черткову от 20 марта Толстой извещал его о посылке рукописи рассказа Феликса Пиа (см. т. 87, № 285).
259. В. Г. Черткову от 20 марта 1891 г.
* 260. Э. М. Диллону (Е. J. Dillon). Неотправленное.
1891 г. Марта 23. Я. П.
М-r Е. Dillon.
Dear sir,
Mr. James Greelman an American gentleman, editor of the New York Herald will forward to you this note. I advised him to see you in St. Petersbourg hoping that you will not refuse to give him all kind of information that he may want about certain Russians affairs, that interest him and help him as a stranger in Petersbourg society which you know so well. In doing it you. will greatly oblige me.
Yours truly
L. Tolstoy.
23 March 1891.
Г-ну Э. Диллону.
Милостивый государь,
Записку эту передаст вам г. Джемс Крильмэн, американец, редактор New York Herald. Я посоветовал ему повидать вас в С.-Петербурге, надеясь, что вы не откажете любезно сообщить ему сведения о некоторых интересующих его русских делах, а также поможете ему, как иностранцу, среди петербургского общества, которое вы так хорошо знаете.
Искренно ваш
Л. Толстой.
23 марта
1891.271
272 Письмо предназначалось к пересылке Джемсу Крильмэну, для передачи Э. М. Диллону и по неизвестным причинам не было переслано. Джемс Крильмэн обратился к Толстому с письмом на английском языке из Петербурга от 12 марта нов. ст., в котором просил принять его, как одного из редакторов газеты «New York Herald», приехавшего в Россию изучать славян. Крильмэну по поручению Толстого ответила приглашением T. Л. Толстая. 12 марта Крильмэн приехал в Ясную Поляну и пробыл там до 13 марта (см. т. 52, стр. 19). По отъезде из Ясной Поляны Крильмэн в письме из Москвы от 14 марта благодарил Толстого за прием и напоминал об обещании дать ему письмо к Диллону.
* 261. К. А. Гринштайну (?).
1891 г.? Марта 19—24? Я. П.
Хотя чувствую большое сравнительно с прежним ослабление умственных и физических сил, но чувствую тоже и то, что жизнь моя не зависит ни от тех, ни от других. Иоанн, в глубокой старости говоривший только: братья, любите друг друга, и сосредоточивший всю свою жизнедеятельность в одной любви, он жил высшею и уже здесь вечною жизнью. И когда знаешь, что это всегда возможно, то не жалко того, что теряешь с годами, только бы это росло.
Отрывок письма, печатается по машинописной копии из AЧ с заголовком: «Грюнбергу? (сельск[ому] учит[елю])». Дата машинописной копии «1891 (?) г.» и фамилия адресата предположительно уточняются на основании пометы в Записной книжке Толстого, где среди перечня фамилий лиц, которым он считает нужным написать, числится «Гринштейн» (см. т. 52, стр. 166).
Константин Андреевич Гринштайн — учитель в местечке Песчанка, Ольгопольского уезда Подольской губ., написал Толстому несколько писем по вопросам религии. В письме от 25 февраля 1891 г. справлялся о состоянии здоровья Толстого.
262. И. Б. Файнерману.
1891 г. Марта 22—24. Я. П.
Очень рад был получить от вас весть, дорогой Исаак Борисович. То письмо ваше я получил — письмо о принципах. Я не отвечал, потому что нечего было. Отчасти я согласен с вами, хотя нахожу, что тут есть слишком тонкое деление. А всё слишком272 273 тонкое опасно, не потому, чтобы оно было несправедливо, а потому, что может выродиться в словопрение.
Верно то, что есть различие между поступками, вызываемыми рассудком, и поступками, вызываемыми верой; но и те и другие свойственны человеку, и человек движется вперед, делая и те и другие.
Впрочем, в этом мы согласны — в существенном, и не будем письменно рассуждать; можно поговорить о жизни на досуге, и, может, бог приведет, а в письме есть более, для обоих нас, интересные сообщения.
Письмо ваше очень поразило меня тем, что вы пишете в конце
о том шатании беспрестанном, которое происходит между нашими друзьями. Вы пишете: «считаю это наказанием божиим и верю, что оно кончится к радости и возвышению духа». Меня поразило это, потому что в этот самый день я писал Попову, который живет с Чертковым в Воронежской губ., что мне кажется, что в нашей жизни, — нашей я разумею людей, идущих по одному пути, — наступило тяжелое, или, скорее, кажущееся тяжелым время, требующее напряжения, твердости и лишенное той прежней радости — восторга, даже просветления; наступило время разочарований в попытках быстрого и полного осуществления, время отпадения, равнодушия и презрения и даже гонений (которые, напротив, ободряют). Я чувствую эту перемену и, к радости своей, вижу, что это положение вещей не только не колеблет того жизнепонимания, которое стало моим, но, напротив, очищает его от наносного, чуждого ему, и утверждает меня в нем. Вы, верно, поймете меня, как я ни плохо выражаюсь, потому что смысл вашей заметки в конце письма — этот самый.
Анатолий живет с братом1 в Русановке. Лиза2 должна родить на-днях. Он столярничает и всё так же кроток и умен. Клобского нет у него. Он проходил здесь, идя в Москву. И мне очень радостно было найти в нем перемену поразительную к лучшему. Ругин в Петербурге, ушел туда пешком. Рахманов ушел от Новоселова к Т[аирову].3 Ге старший в Петербурге с картиной Иуда,4 а младший дома и, чай, уже пашет.
Пускай шатанье; только бы каждый делал, что ему велит бог, без заботы о людях, и выйдет то, что должно быть, и чего ты наверно угадать и представить себе не можешь.273
274 В Полтаве должен быть В. И. Алексеев. Не видали вы его? —
Я очень занят работой, кот[орая] идет очень медленно, напряженно, но которая засела так, что поглощает те слабые силы, к[оторые] есть во мне.
Что ваша жена Анна Львовна?5 Что дети? Напишите мне всё, если вам не тяжело. Мне всё, что вам близко, важно. Ну, пока прощайте, целую вас.
Л. Толстой.
Радостны очень всё более и более завязывающиеся отношения мои с шекерами. Сейчас буду отвечать 82-летнему старику Ивенсу,6 который на-днях прислал мне свою автобиографию и другие сочинения. Если бы не спиритизм, духовидство, это было бы наивысшее до сих пор проявившееся осуществление учения Христа: 1) Непротивление насилию. 2) Отсутствие частной собственности. 3) Отрицание священства, докторов, судейских. 4) Равенство полов. 5) Стремление к чистоте в половом от[ношении]. — На вопрос мой, как они удерживают от внешних свою общую собственность, он отвечал, что они в этом отношении далеки от идеала; но стараются как можно ближе быть к нему. — Я непременно переведу некоторые из их писаний. Они смешаны с суеверием спиритизма, но самого высокого духа.
Печатается по копии из AЧ с датой «1891 г.». С абзаца, начинающегося словами: «В Полтаве» — по автографу (начало утеряно). Большой отрывок с датой «Апрель 1891 г.» впервые опубликован в газете «Елисаветградские новости» 1904, № 92 от 22 февраля. Датируется приблизительно, на основании записи в Дневнике Толстого 24 марта (см. т. 52, стр. 24) и упоминания о письме к Е. И. Попову (см. № 257).
Ответ на два письма Файнермана — одно несохранившееся, другое с почтовым штемпелем «Полтава. 5 февраля 1891 г.», в котором Файнерман писал Толстому «о вере и принципах» и о разнице в поступках, вызываемых верой и «принципами».
1 Анатолий Степанович и его брат Андрей Степанович Буткевичи.
2 Елизавета Филипповна, жена Анатолия Степановича Буткевича.
3 Алексей Александрович Таиров (р. 1857), врач, живший в селе Сукове, Весьегонского уезда Тверской губ.
4 Картина Н. Н. Ге «Совесть».
5 Анна Львовна Любарская, вторая жена Файнермана.
6 Фредерик Эванс (не Ивенс). См. прим. к письму № 228. Написал ли Толстой Эвансу, неизвестно. Письма к Эвансу за это время не имеется.
263. В. А. Гольцеву.
1891 г. Марта 25. Я. П.
Дорогой Виктор Александрович,
Мой знакомый, А. И. Орлов, сделал прекрасный перевод мыслей Паскаля, особенным, выгодным для оценки их способом расположив их.
Не могу хвалить этого расположения, п[отому] ч[то] оно принадлежит мне, но все-таки [думаю], что оно будет содействовать успеху книги. — Не издадите ли вы ее? Орлов бедный человек и желал бы получить вознаграждение за свой труд. Я с этою же почтою пишу ему,1 прося его, чтобы он пошел бы к вам за ответом. Простите, пожалуйста, если я этим утруждаю вас, но книгу эту я желал бы видеть напечатанною, не для того, как это часто бывает, чтобы сделать приятное или нужное составителю ее, но п[отому], ч[то] книга действительно очень хорошая.2
Как жаль, что за зиму не пришлось увидаться. Может, летом соберетесь. — Благодарю за книгу Алексеева; она, верно, уже вышла теперь.3
Желаю вам всего лучшего.
Л. Толстой.
P. S. Не пишите мне, что вы возьметесь издать, если я напишу предисловие, а решайте так, как есть. Предисловия писать мне всегда совестно и неприятно, а кроме того, я и вообще не умею их писать, а тем более цензурно.
Впервые опубликовано в сборнике «Памяти Виктора Александровича Гольцева», М. 1910, стр. 153. Датируется по содержанию и записи в Дневнике Толстого 25 марта (см. т. 52, стр. 24).
1 Письмо это неизвестно.
2 В. А. Гольцевым книга эта напечатана не была.
3 Книга П. С. Алексеева «О пьянстве» вышла между 24 и 31 марта 1891 г.
264. H. Н. Страхову.
1891 г. Марта 25. Я. П.
Давно ничего не знаю о вас, дорогой Николай Николаевич. Благодарю вас — мне всегда приходится благодарить вас, а не вам меня; вам это должно быть радостно — за книжку275 276 Спенсера 1 Только это не в коня корм. Я совсем забыл уже то действие, к[оторое] производит на меня Спенсер, но при попытке прочтения этой брошюрки повторялось много раз испытанное прежде: не скука, но подавленность, уныние и физическая невозможность читать дальше одной страницы. Между прочим мне в эту минуту она и не нужна была, так как свою статью о науке и искус[стве] я опять отложил — она меня отвлекала от другого, более по моему мнению важного дела. Да кроме того и взялся я теперь за нее опять не по внутреннему влечению, а по разным натолкнувшим обстоятельствам, из к[оторых] одно б[ыло] то, ч[то] со мной не рассуждают, а махают на меня рукой, как на врага науки и искусства, что мне показалось обидным, т[ак] к[ак] я всю жизнь только и занимался тем, чего они меня называют врагом, считая эти предметы самыми важными в жизни человеческой. Выписал я себе Diderot2 и читал последнее время, и вспоминал о вас. Помните вы его De l'interprétation de la nature — первые параграфы до VII, да и далее, в особенности там, где он говорит об увлечении математикой в его время, и о том, как на ее место станут науки естественные, и о том, как и они дойдут до своего предела. И как их предел есть полезное. Всё это и многое другое поразило меня своей правдой и3 новизной. Если вы не помните или не читали, чего не может быть, но чему бы я б[ыл] очень рад, п[отому] ч[то] я бы заслужил этим вашу благодарность, то прочтите или перечтите. — Еще б[ыл] у меня на-днях американец, издатель Herald’a Нью-йоркского, и из разговора с ним да и из цитат, попадавшихся мне, я заинтересовался Thomas Paene, «Age of reason»,4 и захотелось не только прочесть, но и приобрести. Если вам попадется и недорого, то купите на мой счет, да еще хотелось мне приобресть Parerga и Paralipomena Шопенгауера.5 Тоже и это бы просил купить мне при случае во время прогулки, но прошу отнюдь не дарить, а получить деньги с Соф[ьи] Ан[дреевны], к[оторая] на-днях, кажется, будет в Петербурге, к великому моему сожалению, хлопотать о выпуске 13 тома. — Вы не можете себе представить, какое тут было — прежде трагическое, а теперь комическое недоразумение: С[офья] А[ндреевна] хлопочет, и как будто для меня, о выходе этого тома, тогда как всё в выходе этого тома мне только неприятно — прежде б[ыло] очень, но теперь чуть-чуть, но все-таки — неприятно: неприятно, что выходят отрывки статей с урезками, неприятно, что продаются мои сочинения,276 277 неприятно, что просто появляются теперь, в этой пошлой форме полного собрания. —6 Всё пишу о себе, а о вас даже и спросить не могу, п[отому] ч[то], спросив о главном деле вашей жизни, о писании, боюсь, что буду спрашивать о себе.7 Успешна ли работа? Это важно. Я по себе знаю, что только тогда не совестно жить, когда думаешь, что успешно. — Ну, пока прощайте, обнимаю вас.
Л. Толстой.
А мне ох как много хочется писать и как мало сил. Такую повесть8 я хотел бы очень писать, да некогда.
Еще не успел запечатать это письмо, как получил ваше зак[рытое],9 благодарю. Пришлите вашу посылку. Всё, что вы пишете, интересует меня.
Вашу статью прочту с большим интересом.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 426—428. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 25 марта (см. т. 52, стр. 24).
1 Герберт Спенсер (Herbert Spenser, 1820—1903), английский буржуазный философ и социолог, позитивист, апологет капитализма.. Страхов прислал его книгу: «Classification of the sciences» («Классификация наук»), вышедшую первым изданием в 1864 г., для работы Толстого над статьей о науке и искусстве (см. т. 30).
2 Дени Дидро (Denis Diderot, 1713—1784), французский писатель и философ-энциклопедист. Толстой имеет в виду его книгу: Diderot, «Oeuvres choisies. Edition du centenaire. 30 juillet 1884», Paris 1884 (Дидро, «Избранные сочинения. Издание к столетию со дня смерти. 30 июля 1884»). Статья «De l'interprétation de la nature» («Об истолковании природы») написана в 1757 г.; напечатана на стр. 11—72 этой книги. В сохранившемся в яснополянской библиотеке экземпляре этой книги Толстым отчеркнут на полях почти весь параграф пятый — о развитии науки и отношении к ней общества и ученых — и два места в параграфе шестом.
3 Зачеркнуто: глубиной.
4 Томас Пэн (Thomas Paine, 1737—1809) — англо-американский радикальный писатель, автор книги «The age of reason» («Век разума»), где он развивал рационалистический взгляд на религию.
5 В яснополянской библиотеке сохранились два немецких издания этой книги немецкого реакционного философа-идеалиста Артура Шопенгауэра (1788—1860): «Parerga und Paralipomena», Herausgegeben von Dr. Herman Hirt, и «Parerga und Paralipomena», Herausgegeben von Dr. Julius Frauenstädt, Berlin 1862. Русский перевод этой книги: А. Шопенгауэр, «Афоризмы о житейской мудрости», СПб. 1901.
6 С. А. Толстая приехала в Петербург 30 марта хлопотать о разрешении на выпуск арестованной цензурным комитетом тринадцатой части «Сочинений графа Л. Н. Толстого». Разрешение она получила после свидания с Александром III. См. ДСАТ, II, стр. 23—36.277
278 7 H. Н. Страхов писал в то время статью «Толки об Л. Н. Толстом».
8 «Отец Сергий» или «Воскресение». См. прим. 3 к письму № 173, письмо № 254 и прим. 2 к письму № 272.
9 Письмо не сохранилось.
* 265. И. И. Горбунову-Посадову.
1891 г. Марта 26. Я. П.
Получил ваше письмо о Липгартовских книжках.1 Я думаю, что это излишняя осторожность. А впрочем, делайте, как считаете лучшим, только я разрешил свои не только ему, но и всем. Книжки же о пьянстве едва ли будут пригодны ему. — В Рус[ское] Обоз[рение] о Pater2 написал. Очень рад, что будут еще картины. —
Л. Т.
На обороте: Воронежск. губ. Россоша.
Ивану Ивановичу Горбунову.
Датируется по почтовому штемпелю и упоминанию под датой «12 марта» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Письмо Горбунова-Посадова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 См. прим. к письму № 251.
2 Ф. Könne, «Le Pater» («Отче наш»). Речь идет о переводе этой драмы А. П. Барыковой. См. прим. к письму № 277. Письмо Толстого в «Русское обозрение» о «Pater» неизвестно.
266. П. И. Бирюкову.
1891 г. Марта 26. Я. П.
Получил письмо ваше, милый друг Поша, и очень рад был ему, хотя оно и показалось мне что-то холодным, строгим. Может быть, это происходило от моего настроения.
1Со мной — я думаю, и со всеми тоже — всегда бывает, что когда я думаю, больше, чем думаю, когда мысль какая овладеет мной, то со всех сторон я слышу отголоски той же мысли. Файнерман писал мне предпоследнее письмо (в последнем на-днях он извещает только, что переезжает из Полтавы в Екатер[инославскую] губ.) о пагубности жизни по «принципам», к[отор]ые он противуполагает вере; он очень верно говорит, что принципы говорят «дай-ка я сделаю», а вера говорит «нельзя не сделать»,278 279 принципы цепляют, тянут, а вера сзади толкает, прет. Вы пишете о том же. И я в своем писании2 думаю о том же: о том, как движется вперед человек и человечество. И я понимаю отрицание рассудочной программной деятельности, но не разделяю его. Рассудочная деятельность забирает действительно вперед стремления; но это не только не беда, но необходимое условие движения вперед: надо прежде занести одну ногу вперед, не перенося еще на нее тяжести всего тела, а потом уже оттолкнуться другою ногою и перенести вперед тяжесть тела. Без этого нет движенья. И упрекать себя за то, что живешь или стараешься жить по вперед определенным правилам, а не по стремлению всего существа, всё равно, что упрекать себя за то, что заносишь вперед ногу, а не прыгаешь всё на одной.
3Маша дала С[офье] А[ндреевне] прочесть ваше письмо. Она ничего не сказала и мне тоже. Пишите мне чаще, милый друг. Посылаю вам письмо Рахманова очень хорошее.4 Он, как мне говорил Никифор[ов], ушел к Таирову. Я отвечал ему, совершенно соглашаясь с ним. Это тоже то новое отношение к жизни, к[оторое] наступило при новом положении, вызванном движением вперед.
Пишите почаще.
Впервые почти полностью опубликовано в Б, III, стр. 199—200. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 26 марта (см. т. 52, стр. 24).
Письмо Бирюкова, на которое отвечает Толстой, неизвестно. См. запись в Дневнике Толстого 24 марта (т. 52, стр. 241).
1 Абзац редактора.
2 «Царство божие внутри вас».
3 Абзац редактора.
4 Упоминаемое здесь письмо В. В. Рахманова, полученное Толстым 28 февраля, не сохранилось.
267. И. В. Файнерману.
1891 г. Марта 26. Я. П.
В ответ вам я не сказал вполне того, что хотел, о мысли вашего первого письма, с кот[орым] я согласен и не согласен.
Я согласен совершенно в том, что жить принципами одними пагубно; но не согласен в том, чтобы можно было жить без них, т. е. без умственной деятельности, определяющей жизнь. Жить279 280 одной верой так же пагубно, как и жить одними принципами. Одно не только связано с другим, но есть часть одного целого: нравственного движения вперед, т. е. жизни. Сказать, что бесполезно или пагубно составлять определение жизни и пытаться сообразовать с ним действительность, всё равно, что сказать, что бесполезно и пагубно заносить одну ногу вперед, не перенесши на нее тяжесть всего тела. Как нельзя итти, не занося ноги и прыгая на одной, так нельзя двигаться в жизни, не определяя умственно пути — не составляя принципов, и не соображая с ними жизнь. И то, и другое, т. е. и определен[ный] вперед принцип и неизбежное следование вере [нужно] для движения. И даже трудно отделить одно от другого, сказать, где одно начинается и другое кончается, точно так же, как при ходьбе сказать, на какую ногу я в данную минуту опираюсь и которая движет меня. — Вы поймете меня и надеюсь, что согласитесь. Я пишу не то, что вздумалось, а я много об этом думал. —
1Пишите мне чаще и напишите мне подробно, что и как вы переезжаете в Екат[еринославскую] губ. — Анатолий Буткевич читал у меня ваше письмо, и оно ему очень понравилось. Теперь я давно не видал его. Он писал только о том, что Л[изавету] Ф[илипповну] хотели изгнать, как евр[ейку], но, кажется, теперь это уладилось. С Андреем Буткевичем живет Рощин, и, кажется, им хорошо.
Любящий в[ас] Л. Толстой.
Почти полностью впервые опубликовано, с датой «Март 1891», в газете «Елисаветградские новости» 1904, № 66 от 25 января. Датируется на основании записей в Дневнике Толстого 24 и 26 марта (см. т. 52, стр. 22 и 24).
1 Абзац редактора.
268. С. А. Толстой от 29 марта 1891 г.
269. Л. П. Никифорову.
1891 г. Марта 31. Я. П.
Очень, очень был рад получить ваше доброе письмо, дорогой Лев Павлович. Я последнее время не избалован выражениями ласки и любви и потому особенно ценю их, тем более от людей, которыми дорожишь.280
281 О Бутсе и армии спасенья1 не хочется говорить; придется осуждать, а это всегда тяжело, а особенно теперь, в том радостном настроении работы, в к[отором] я нахожусь. Скажу, как Гамалиил:2 если от бога это дело, то как бы не быть врагом дела божья, а если не от бога, то оно само погибнет.
Как вы мне не сказали о книжке о Достоевском — это очень интересует меня; и я уверен, книжка будет прекрасная.3 Хоть одно его изречение о том, что всякое дело добра, как волна, всколыхивает всё море и отражается на том берегу.4
5Маша, кажется, до сих пор ничего не послала вам, хотя собрала кое-что. Но очень мало. Я сейчас напомню ей и настою, чтобы послала, что есть. — То, что обо мне пишете вы,6 не может не быть для меня приятным — не то, что приятным, а то, что если пишете, то я знаю, что распределение важности содержания будет сделано вами на том же самом основании, на к[отором] оно делается мною: высоко цениться будет то, что мною высоко ценится, и пренебрегаться будет то, что мною пренебрегается. А это первое условие для того, чтобы правдиво описать человека. —
Желал бы вам быть полезным, но не знаю чем; впрочем, будем это иметь в виду с Машей и собирать и посылать вам то, что может быть нужно.
Поклонитесь Рахманову, если он еще в Твери. Получил ли он мое письмо? Отвечать не надо, а я только хочу знать, дошло ли? Что ж бедный Гастев?7 Неужели нельзя было его уходить дома. Радуюсь за вас и вашу семью, что вы так устроили свою жизнь. Помогай вам бог. У нас страшная нищета и нужда везде кругом — ни хлеба, ни корма скоту, ни семян. Я сейчас пришел домой, набравшись этих впечатлений, и очень тяжело жить в той роскоши, в к[отор]ой я живу. Успокоение дает только работа. Ну, пока прощайте. Привет всем вашим. Может, и приведет бог свидеться. —
Любящий вас Л. Т.
Впервые опубликовано без даты в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 86. Датируется по содержанию и записи в Дневнике Толстого 1 апреля (см. т. 52, стр. 25).
Письмо Никифорова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Бутс (William Booth, p. 1829), основатель секты в Англии «Армия спасения» («Salvation Army»).281
3 Никифоров составлял книжку: «Ф. М. Достоевский. Задачи русского народа». Вышла в издании составителя с указанием: «Составлено по «Дневнику писателя» (СПб. 1891).
4 См. Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы», часть 2, книга 6, гл. III: «Из бесед и поучении старца Зосимы».
5 Абзац редактора.
6 Никифоров в то время писал биографию Толстого. Издание предназначалось в пользу голодающих, но было запрещено цензурой. Работа Никифорова по желанию Толстого просматривалась С. А. Толстой. Напечатана была в 1902 г.: Л. Никифоров, «Лев Николаевич Толстой. Биографические сведения» — «Курьер» 1902, №№ 241, 246 и 263 от 1, 6 и 23 сентября.
7 Петр Николаевич Гастев (р. 1866), бывший воспитанник Тверской духовной семинарии, участник тверской общины Дугино. См. о нем в т. 66. В марте 1891 г. Гастев был помещен в Бурашевскую психиатрическую лечебницу близ Твери.
* 270. С. Т. Семенову.
1891 г. Марта 31. Я. П.
Письмо ваше очень рад был получить. Повесть мне понравилась, и очень желаю ее видеть напечатанной.1 Я послал ее в редакцию Недели. Я думаю, что Гайдебуров напишет вам. Если ему не понадобится, я попытаюсь поместить в другом месте и потом в Посреднике. Не отвечаю вам длинным письмом, п[отому] ч[то] очень занят. XIII том в цензуре. Если выйдет, я попрошу вам послать. Дай бог вам жить так, как вам душою хочется.
Любящий вас Л. Т.
На обороте: Волоколамского уезда Московской губернии, деревня Андреевская.
Сергею Терентьевичу Семенову.
Датируется на основании почтового штемпеля и записи в Дневнике Толстого 1 апреля (см. т. 52, стр. 25).
Письмо Семенова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Рассказ С. Т. Семенова «Братья Бутузовы» был опубликован в книге: С. Т. Семенов, «Крестьянские рассказы», т. II, «Девичья погибель» и другие рассказы, изд. «Посредник», М. 1898.
271. C. A. Толстой от 31 марта 1891 г.
272. М. А. Стаховичу.
1891 г. Апреля 1. Ясенки.1
Вот что, дорогой Михаил Александрович,
В Ясенках есть смотритель станции Семен Алексеевич Лосинской. Он незаконный сын отца, тоже Лосинского, который женился на его матери и теперь просит государя об усыновлении — прошение и от отца, и от него, к[оторое] пошлется вместе с этим письмом. Попросите кого надо, чтобы дали ход его невинной просьбе. Очень меня обяжете.
Я бы очень [хотел] делать то, что вы через Страхова мне желаете,2 да на дороге пока стоит другое, а масло в лампе догорает.
Желаю вам всего хорошего — быть таким же добрым, как вы были в последний приезд.
Если это будет, т. е. доброта, всё будет хорошо. —
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые опубликовано без даты в газете «Русское слово» 1911, № 230 от 7 октября. Датируется на основании упоминания о нем в письме к С. А. Толстой в Петербург от 1 апреля 1891 г. (см. т. 84, № 437).
Михаил Александрович Стахович (1861—1923) — в то время состоял при Министерстве юстиции; впоследствии член Государственного совета, белоэмигрант. См. т. 63, стр. 190—191.
1 Письмо это было написано на станции Ясенки, куда Толстой ездил 1 апреля (см. т. 52, стр. 25), когда, очевидно, и узнал о подаваемом Лосинским прошении.
2 С. А. Толстая в дневнике 4 февраля 1891 г. записала: «Он [Толстой] говорил Тане, что задумывает художественное и большое сочинение. То же он подтвердил и Стаховичу» (ДСАТ, II, стр. 4). Пожелание Стаховича — писать эту «повесть», очевидно, было передано Толстому в несохранившемся письме Страхова, получение которого Толстой отметил в Дневнике 25 марта (см. т. 52, стр. 24).
273—276. С. А. Толстой от 1, 2, 3 и 4 апреля 1891 г.
* 277. И. И. Горбунову-Посадову.
1891 г. Апреля 4. Я. П.
Давно надо б[ыло] отвечать о рассказах.1 Ни Быстренина,2 ни Квасоваровой3 рассказы мне не нравятся для народа. Они писаны с точки зрения барской, а сами по себе очень не дурны.283
284 Квасов[аровой] очень даже хорош4 по языку. На-днях я послал полученную от Семен[ова] повесть Гайдеб[урову]. Та очень хороша, как всё Семеновское, не блестяще, но серьезно, содержательно и искренно. Пошлите в Рус[с]к[ое] Обозр[ение] Дмит[рию] Николаевичу] к[н]. Цертелеву5 адрес Барыковой.6 Pater напечатают.7 Прекрасное письмо Владимира] Гр[игорьевича] получил и буду отвечать.8 Хозяйственные статьи прочел. Никуда не годится.9 Доказывает только то, что в этом деле нам больше есть чему учиться, чем учить. Всё пошлю на-днях.
Л. Т.
На обороте: Воронежской губ. Россоша.
Ивану Ивановичу Горбунову.
Датируется по почтовому штемпелю.
Письмо Горбунова-Посадова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Имеются в виду рассказы, предназначавшиеся к напечатанию в «Посреднике» и присланные Толстому для отзыва.
2 Толстому была послана для отзыва повесть Владимира Порфирьевича Быстренина (р. 1856) «Свой суд», напечатанная впервые в «Книжках Недели» 1886, 6, стр. 1—19, и затем перепечатанная в сборнике: «Очерки и рассказы», М. 1890.
3 О Квасоваровой и ее рассказах сведений нет.
4 Можно прочесть: хороши
5 См. прим. 6 к письму № 180.
6 Анна Павловна Барыкова (1839—1893), поэтесса и переводчица, дальняя родственница Толстого по матери.
7 Ф. Kоппe, «Le Pater» («Отче наш»). Перевод А. П. Барыковой был напечатан под заглавием: Франсуа Коппе, «Отче наш». Драма в одном действии в стихах — «Русское обозрение» 1891, сентябрь, стр. 55—77.
8 См. письмо Толстого к В. Г. Черткову от 4 апреля 1891 г., т. 87.
9 По воспоминаниям (устным) И. И. Горбунова-Посадова, Толстой имеет в виду статьи о новых сельскохозяйственных орудиях молодого агронома H. М. Катаева. В изд. «Посредник» напечатаны не были.
278. В. Г. Черткову от 4 апреля 1891 г.
279—281. С. А. Толстой от 5, 6 и 7 апреля 1891 г.
282. Г. А. Русанову.
1891 г. Апреля 7. Я. П.
Спасибо, дорогой друг Гаврило Андреевич, за ваше письмо. Вы меня пристыдили — пишете, что ваше письмо вызовет мое, как будто я не могу написать вам, не дожидаясь вас. И вот284 285 вследствие пристыжения, пишу сейчас, хоть пока несколько строк. Что-то мне показалось по вашему письму, что здоровье ваше хуже. Так ли это? И в чем именно ваши страдания? Где и какие боли? Одно хорошо, что, как из личного общения, так и из письма, я вижу, как ясно, независимо от страдании тела, течет ваша духовная жизнь.
Спасибо за выписки из слова Буткевича, они очень мне были интересны и полезны. Похвастаюсь вам, всякая брань, осуждение, даже столь дикое, как это, мне, не скажу радостно, но я рад, когда слышу их, желаю их,1 и наоборот, всякие похвалы самым неприятным, расслабляющим образом действуют на меня. Такое действие произвела на меня статья Страхова, к[оторую] посылаю вам. Статью эту не пропускают и, кажется, не пропустят.2
Несмотря на мою любовь к Стр[ахову] и на задушевность этой статьи, она произвела на меня тяжелое впечатление выходящим из всяких пределов преувеличением значения моей деятельности. Одно знаю, что хочется не думать про это, а делать по силе, по мочи. А силы и мочи уже остается мало. С большим усердием пишу,3 и очень хочется написать, но подвигаюсь мало.
Жена теперь в Петербурге, и 13 т[ом] ей пропустили без Крейц[еровой] Сонаты, но она еще надеется и ее выхлопотать.
Радуюсь за вас, что вы уезжаете в деревню и жалею ваших мальчиков, пока привязанных к городу.
Ох, боюсь я всякого принуждения к физической работе. Ведь это вроде принуждения есть суп. Надо, чтоб был голод, голод работы. И он будет.
4Ну, пока прощайте. Целую вас, поклон вашей милой жене, и Андрюше,5 и Борису,6 а меньших не знаю.
Любящий вас Л. Толстой.
На конверте: Воронеж, Введенская ул., д. Прибыткова.
Гавриилу Андреевичу Русанову.
Впервые опубликовано неточно в журнале «Вестник Европы» 1915, 3, стр. 20—21 с неверной датой. Датируется по почтовому штемпелю.
Письмо Русанова, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Харьковская газета «Южный край» опубликовала в № 3494 от 5 марта 1891 г. проповедь местного протоиерея Т. Буткевича, произнесенную в кафедральном соборе: «О лжеучении графа Л. Н. Толстого», в которой285 286 говорится, что сочинения Толстого отличаются «разрушительной силой и растлевающим характером». Буткевич выражал надежду, что «благочестивый государь» пресечет своевременно разрушающую деятельность Толстого.
2 Н. Страхов, «Толки об Л. Н. Толстом».
3 Книгу «Царство божие внутри вас».
4 Абзац редактора.
5 Андрей Гаврилович Русанов (р. 1874).
6 Борис Гаврилович Русанов.
Г. А. Русанов отвечал большим письмом, помеченным в начале: «июль 1891» и в конце: «11 сентября 1891».
283. Н. Н. Страхову.
1891 г. Апреля 7. Я. П.
Прочел вашу статью,1 дорогой Николай Николаевич, и, признаюсь, не ожидал ее такою. Вы понимаете, что мне неудобно говорить про нее, и не из ложной скромности говорю, а мне неприятно было читать про то преувеличенное значение, к[отор]ое вы приписываете моей деятельности. Было бы несправедливо, если бы я сказал, что я сам в своих мыслях, неясных, неопределенных, вырывающихся без моего на то согласия, не поднимаю себя иногда на ту же высоту, но зато в своих мыслях я и спускаю себя часто, и всегда с удовольствием, на самую низкую низость; так что это уравновешивается на нечто очень среднее. И потому читать это неприятно. Но, оставив это в стороне, статья ваша поразила меня своей задушевностью, своей любовью и глубоким пониманием того христианского духа, к[отор]ый вы мне приписываете. Кроме того, когда примешь во внимание те условия цензурные, при к[оторых] вы писали, поражаешься мастерством изложения. Но все-таки, простите меня, я буду рад, если ее запретят. —
Во всяком случае эта ваша статья сблизила меня еще больше с вами самыми основами. —
Что вы теперь делаете?
С[офья] А[ндреевна] привезет мне живую грамоту о вас. Я всё понемногу, упорно, иногда с бодростью, а чаще с унынием работаю над своей статьей, и хочется и не смею писать художественное. Иногда думаю, что не хочу, а иногда думаю, что, верно, и не могу. Ну, пока прощайте, целую вас.
Л. Толстой.286
287 Вс[ё] читаю Diderot. Что вы о нем думаете?
Мой учитель2 просит, главное, чтобы ему дали ответ на поданную им докладную записку Делянову. Если нельзя, то не надо. Ради бога, чтоб это не стеснило вас.
Впервые опубликовано в ПС, стр. 428—429. Датируется на основании пометы Страхова на автографе и упоминания о нем в письме Толстого к С. А. Толстой от 8 апреля (см. т. 84, письмо № 444).
1 Н. Страхов, «Толки об Л. Н. Толстом». Толстой получил от Страхова отдельный оттиск из журнала «Русское обозрение», II, стр. 287—316, где статья не была напечатана (дата на оттиске: «С.-Петербург, 25 февраля»). Экземпляр этого оттиска сохранился в яснополянской библиотеке. Впервые статья опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии» 1891, 9, стр. 98—132.
2 Д. А. Зеленецкий. См. письмо № 238.
284—285. С. А. Толстой от 8 и 9 апреля 1891 г.
* 286. Д. А. Юдину.
1891 г. Апреля 9. Я. П.?
В лавку Юдина.
Прошу отпустить подателям сего шестнадцать (16) четвертей овса. 9 апреля 1891.
Лев Толстой.
Записка в лавку Дмитрия Алексеевича Юдина, находившуюся на шоссе против деревни Ясенки, отпустить заимообразно, до осени, овса для посева крестьянам деревни Телятинки, пострадавшим от пожара. См. записи в Записной книжке Толстого 1 и 9 апреля 1891 г., т. 52, стр. 168.
287. В. Г. Черткову от 9 апреля 1891 г.
* 288. С. Т. Семенову.
1891 г. Апреля 10. Я. П.
Гайдебуров пишет мне, что рассказ1 совершенно нецензурен, и он возвращает его мне.2 Я попытаюсь поместить его еще куда-нибудь, но очень боюсь, что ответ будет тот же, т[ак] к[ак] Гайдебуров знает в этом толк, т. е. что можно и чего нельзя. — Не унывайте, пожалуйста. Знаю, что вам нужно, но не рассчитывайте на этот заработок. Он самый обманчивый и вредный. —
Я попробую послать в Сев[ерный] Вестник,3 но, опять повторяю,287 288 не ожидаю успеха. — А рассказ хорош, хотя не всем нравится. Помогай вам бог. Пишите мне. Всегда рад вести о вас.
Л. Т.
На обороте: Московской губернии Волоколамского уезда. Деревня Андреевское.
Сергею Терентьевичу Семенову.
Датируется на основании почтового штемпеля.
1 «Братья Бутузовы».
2 Об этом Гайдебуров сообщил Толстому в письме от 31 марта.
3 «Северный вестник» — либерально-народнический журнал. Издавался с сентября 1885 г. С октября 1890 г. — издатель-редактор Б. Б. Глинский. С июня 1891 г. — издательница Л. Я. Гуревич, редактор М. Н. Альбов. С 1895 г. до прекращения выхода журнала в марте 1898 г. — редактор-издательница Л. Я. Гуревич.
289. С. А. Толстой от 10 апреля 1891 г.
* 290. Д. А. Юдину.
1891 г. Апреля 10. Я. П.
В лавку Юдина.
Прошу отпустить сему подателю Ивану Родионову1 10 мер (десять мер) овса. Итого забрано будет овса 17 четвертей и 2 меры по 3 р. 60 к. за четверть.
Л. Толстой.
10 апреля 1891 г.
См. прим. к письму № 286.
1 Яснополянский крестьянин.
291—292. С. А. Толстой от 11 и 12 апреля 1891 г.
293. В. Г. Черткову от 15 апреля 1891 г.
* 294. H. Н. Ге (сыну).
1891 г. Апреля 17. Я. П.
Очень обрадовался, милый друг Количка, вашему письму и его содержанию, что вам нужно и хочется меня чувствовать, как мне вас. Не говорите, милый друг, что вам не хорошо (вы,288 289 правда, не говорите этого, но говорите, что не хорошо живете), я об вас часто думаю и всегда с той особенной завистью, которой завидуешь* людям, которых любишь. Вы мне раз давно сказали, что бывает так, что к чему стремишься, чего желаешь, получается так, что и не заметишь, что получил. Оглянешься, вспомнишь: «ах да, да у меня то же самое, о чем я мечтал, как о великом счастье».
Это очень правда, и я это много раз испытывал, и вы должны испытывать. Счастье, добро, благо незаметно, как чистый воздух.
Старик ваш зажился,1 и я боюсь попортился немножко; наша порода художников очень падка на тщеславие. Я всё ему это расскажу, когда увижу.
Жена была в Петербурге и видела его. Он на отъезде и ждал только возвращения Ильина.
Я живу не скажу хорошо, но и не дурно. Пишу с большим усилием, но очень медленно подвигаюсь: не знаю, предмет ли важен, требования ли от себя велики, или ослабли силы, но очень медленно работаю. Зато терпенья, упорства много, по 20 раз переделываю.
Теперь все собрались дети. Илья всё хозяйничает и живет распущенно, и денежные столкновения с матерью, и решили все делить именье. Илья рад, остальные спокойно равнодушны. Маша озабочена тем, как бы отказаться так, чтобы ее часть не была ее. Я должен буду подписать бумагу, дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. И все-таки подпишу, пот[ому] что, не поступив так, я бы вызвал зло.2
Получаю хорошие письма, между прочим от Рахманова, от Файнермана. Все переступили ту первую ступень, на которой вступили сначала, и идут дальше, и это радостно.
Пишу нехорошим почерком, потому что приехал из Ясенков и руки озябли, а не хорошо по содержанию, потому что не совсем хорошо настроен. Но хочется поскорее написать.
Прощайте пока, милый друг. Непременно напишу еще, когда придут хорошие, нужные нам мысли, а с отцом, бог даст, пришлю вам статьи, и книги, и письма. Вы, я чай, отсеялись и нет большого спеха в работе. Жене кланяйтесь, Рубану, Зое. Целую вас. Наши все кланяются и нежно любят.
Л. Толстой.289
290 * Завидую я вашей суровой, рабочей, близкой к природе,
законной жизни. Цените ее. Моя ненормальная, роскошная, гадкая жизнь, не подправляемая теперь работой в поле, к которой не решаюсь приступить, всегда тяготит и мучает. Одно спасенье, когда пишется и веришь, что это важно и нужно людям, а это бывает редко.
Печатается по копии М. Л. Толстой. Три небольших отрывка впервые опубликованы в Б, III, стр. 183 и 201. Дата копии.
Письмо Ге, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 Художник Н. Н. Ге «зажился» в Петербурге, куда он уехал из Ясной Поляны 20 февраля. См. письмо № 241.
2 О том, как было разделено имущество между С. А. Толстой и детьми, см. ДСАТ, II, стр. 21—22. Дарственную бумагу Толстой подписал 17 апреля, но окончательный раздел произошел только в июле 1892 г. См. П. И. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого», 3, Гиз, М. 1922, стр. 142 и 191.
* 295. В. А. Гольцеву.
1891 г. Апреля 24—28. Я. П.
Дорогой Виктор Александрович.
А. Н. Дунаев, мой приятель, передаст вам статью Семенова, (крестьянина); это прекрасный, содержательный рассказ,1 и хорошо бы было его напечатать. Если он годится вам,2 или в фельетон Рус[ских] Вед[омостей],3 не поместите ли его? Автор человек бедный и нуждается в гонораре. Очень бы хорошо поместить; рассказ полезный. А. Н. Дунаев передаст вам адрес Семенова, если вам понадобится вступить с ним в сношения.
Любящий вас Л. Толстой.
Датируется на основании упоминания о пребывании в Ясной Поляне А. Н. Дунаева. См. ДСАТ, II, стр. 37 и 38.
1 «Братья Бутузовы».
2 Толстой имеет в виду журнал «Русская мысль», редактором которого состоял Гольцев.
3 В. А. Гольцев сотрудничал в московской газете «Русские ведомости». Толстой предполагал поместить рассказ Семенова в фельетонный отдел этой газеты.
296. Е. И. Попову.
1891 г. Апреля 24—28. Я. П.
Мне пришло в голову переписать вам это письмо, дорогой Е[вгений] И[ванович], и потому, что и письмо хорошо само по себе, и хорошо поминает вас. Маша и А[лександр] Н[икифорович] мне и переписали его. Вот тут мы все пятеро в общении духовном. Как радостно, когда люди любят друг друга, и как мало кажется разницы между тем, чтобы сказать доброе, любовное слово о человеке, или злое, и какая это не то что разница, а противуположность: одно служит любви, богу, другое — ненависти, дьяволу. Странно даже думать, как легко мы говорим злое.
1Алекс[андр] Никиф[орович] живая грамота. Мы живем по-старому. Работа моя2 медленно и туго, но подвигается, переделываю и очень то, что вы последнее диктовали, и иногда кажется, что это нужно. Ну, пока прощайте. Что вы? Извещайте о себе.
Любящий вас Л. Т.
А[лександр] Н[икифорович] идет завтра к Бутк[евичам], и я, может быть, послезавтра съезжу туда верхом.
На конверте: Евгению Ивановичу Попову.
Впервые опубликовано в ПТС, II, стр. 122. Датируется на основании упоминания о пребывании в Ясной Поляне А. Н. Дунаева.
Настоящее письмо написано вслед за копией письма В. Г. Черткова к Толстому из Ржевска, Воронежской губ. от апреля 1891 г. (см. т. 87, стр. 84), сделанной А. Н. Дунаевым и М. Л. Толстой.
1 Абзац редактора.
2 «Царство божие внутри вас».
297—298. В. Г. Черткову от 28 апреля и 6 мая 1891 г.
299—300. С. А. Толстой от 7 и 8 мая 1891 г.
301. В. Г. Черткову от 8 мая 1891 г.
302. М. В. Алехину.
1891 г. Мая 9. Я. П.
Очень рад был получить ваше письмо, Митрофан Васильевич.
С мнением вашим о том, что многим людям нужно было уединение и пост для укрепления и испытания себя, я совершенно291 292 согласен; но думаю — вероятно, и вы тоже — что это не может быть правилом: одним нужны уединение и пост прежде, чем другие испытания, другим нет. При одинаково искреннем стремлении к добру и истине пути, по к[отор]ым идут к ним люди, могут быть совершенно различны.
1Мне кажется, что одна из главных причин несогласия людей это то, что каждый, идя по своему известному пути к цели и видя другого, идущего по другому пути к той же цели (а путей столько же, сколько радиусов), мы склонны настаивать на том, что истинный путь только тот, по к[оторому] мы идем.
1Вообще же статья о постниках мне была интересна, п[отому] ч[то] в последнее время пришлось много читать и думать об обжорстве2 (прекрасная английская книга о том, что с древнейших времен, с Пифагора до наших дней писалось о вегетарьянстве, вообще о воздержании, переводится у нас3), и я думаю, что один из главных грехов, самый распространенный и едва ли не коренной, на к[отором] вырастает куча других, есть обжорство — гортано и чревобесие — желание долго и как можно больше и приятно есть. В статье о постниках много суеверного, преувеличенного, и самый мотив постничества, состоящий в казнении своего тела и в надежде через постничество усилить свою духовную силу, мне кажется неверным. Но сущность дела то, что человек ест теперь большей частью во много раз больше, чем это нужно для наилучшего проявления его сил (под силами я разумею наивыгоднейшее отношение для человеческой деятельности духовных и физических сил) и что поэтому всем полезно постничество, сознательное уничтожение чревобесия, т. е. приучение себя к наименьшему количеству пищи, при к[отор]ом достигается наивыгоднейшее состояние. Наивыгоднейшее же состояние достигается, я думаю, при потреблении гораздо меньшего количества пищи, чем вообще это считается нужным. Вы говорите, что победить пищевую похоть вам было бы легче всего, для меня же напротив. И я думаю, что пищевая похоть связана тесно с половою и служит основою ей. Вы, может быть, скажете: что считать наивыгоднейшим отношением духовных и телесных сил? и что это понятие относительное. Я не возьмусь теперь определить абсолютно, какое это должно быть отношение; но для себя знаю его и думаю, что каждый знает. Я знаю в себе то состояние, к[оторое] ближе всего подходит к тому, в к[отором] я всегда желал бы быть:292 293 большая ясность мысли, способность переноситься в состояние другого, понимать его и легкость физическая, подвижность, отсутствие сознания своего тела. И вот известная мера пищи удаляет или приближает меня к этому состоянию. Если я перепощу, мой желудок чувствуется мне, нет ясности мысли и сочувствия, хотя и есть подвижность. Если я переел, то теряется всё: и ясность мысли, и сочувствие, и даже подвижность. И потому я всегда найду ту степень, к[оторая] нужна, и она всегда ниже обычно принимаемой большинством пищи. Если вам покажется, что я напрасно толкую о таком предмете, то простите; я считаю этот предмет из практических приложений к жизни несомненно самым важным. —
Ваше миросозерцание я более или менее понимаю, но говорю более или менее, п[отому] ч[то] вполне выразить свой взгляд на жизнь невозможно. Мы понимаем миросозерцание друг друга не вследствие того, что мы его выразили в общей связи, а больше вследствие разных случайных выражений согласия, сочувствия по разным вопросам. И так я знаю вас и ваши взгляды по рассказам о вас Исаака, Ге,4 вашего брата и знаю, что мы одному верим и одно любим.
5Нет ли у вас известий от брата? Я получил от него недавно письмо из-под Одессы и отвечал,6 но еще не имею ответа.
Любящий вас Лев Толстой.
Передайте мой привет Д[митрию] А[лександровичу]. Не возьмется ли он переводить часть книги, о к[оторой] я пишу?
Впервые в отрывках (с многочисленными искажениями) опубликовано в «Спелых колосьях», 2, стр. 70—72; полнее напечатано в «Известиях Общества Толстовского музея» 1911, I, июль, стр. 3—4. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 10 мая (см. т. 52, стр. 31).
Митрофан Васильевич Алехин (1857—1935) — брат Аркадия Васильевича, художник, организатор общины Байрачная в 18 верстах от Харькова. См. т. 64, стр. 339. С ноября 1890 г. до мая 1891 г. М. В. Алехин жил на хуторе Д. А. Хилкова в Сумском уезде Харьковской губ.
Ответ на письмо Алехина без даты, в котором Алехин сообщал, что посылает Толстому статью из церковного журнала «о постниках» (сектантах), присланную ему И. Б. Файнерманом, и писал о своем мировоззрении.
1 Абзац редактора.
2 Толстой читал в январе присланные ему членом Берлинского вегетарианского общества Кейделем немецкие брошюры о вегетарианстве.293
294 3 Книга Хауарда Уильямса (Howard Williams) «The Ethics of Diet» («Этика пищи»). Была издана «Посредником» в русском переводе под заглавием: «Этика пищи или нравственные основы безубойного питания для человека. Со вступительной статьей «Первая ступень» Льва Николаевича Толстого», М. 1893.
4 Н. Н. Ге, сын художника.
5 Абзац редактора.
6 Эти письма А. В. Алехина и Толстого неизвестны.
303. В. В. Рахманову.
1891 г. Мая 9. Я. П.
Дорогой В[ладимир] В[асильевич], на последнее письмо ваше я хотел отвечать и откладывал, п[отому] ч[то] казалось, ч[то] занят, но приписка Л[ьва] П[авловича]1 побудила отвечать.
2Колебался я отвечать, п[отому] ч[то] мне не ясен ваш вопрос. Вы как-то связываете сознание того, что вы пользуетесь насилием, с состраданием к мучающимся и мученным людям. Я связи этой не вижу. Это первое, а второе не согласен с тем, ч[то] вы живете насилием. Я сужу по себе; я живу в условиях гораздо худших, чем вы, и все-таки не считаю, что я живу насилием. Да и вообще не понимаю хорошенько, что разуметь под этими словами. Я не живу насилием в том смысле, ч[то] знаю, ч[то] всякий раз, как мне представится вопрос, употребить ли насилие, или нет, я не пожелаю насилия и не употреблю его сознательно. (Пример, к[оторый] я всегда для себя употребляю: если скажут, что подходит Пугачев, убивающий и насилующий всех, я не только не приготовлю ружье и порох, а утоплю его, чтобы избавиться от искушения.) — Но сказать, что я никогда не употреблю насилия или незаметно для себя не воспользуюсь им — не могу, п[отому] ч[то] сказать это значит сказать, что я свят. И колебаться и сомневаться о том, действительно ли я не участвую в насилии, я не могу, п[отому] ч[то] знаю очень хорошо, ч[то] было, когда я участвовал в нем, знаю, что всё мое миросозерцание и вся жизнь моя другие и что я не обманываю себя, когда думаю, что ненавижу насилие и всеми силами души стремлюсь жить без него, т. е. жить по закону бога — любовью.
2Теперь вопрос о страданиях людей, производимых насилием. Я знаю, что они есть. Я ненавижу насилие и отрекаюсь от него только п[отому], ч[то] знаю, ч[то] они есть, ч[то] есть эти страдания, но мое отречение от насилия, я знаю, не спасет от страданий294 295 людей. Я этого и не ждал. Спасет людей от страдания установление царства б[ожия], и оно устанавливается и мною. Средство установления его есть любовь. — Любовь и руководит теми поступками, к[оторые] надо совершать. А какие эти поступки, к[оторые] по любви надо совершать, это знает тот, кому надо поступать. Итти ли в копи и вместе работать? Увещевать ли хозяев изменить положение рабочих? Или рабочих свою жизнь, чтобы им нужно б[ыло] итти? Или еще что, это знает каждый в своем положении. И если он слушается голоса любви, а не эгоизма, то он сделает, ч[то] должно, и, сделав или делая, не то что будет спокоен, но не будет беспокоен. Учение же Хр[иста] покажет ему, чего не надо делать. Не злить, не злиться, не разделять людей.
Главное же, главное то, что мне очень ясно теперь и что бы мне так хотелось с тою же ясностью передать другим. Это то, что как идеал внутреннего совершенства бесконечен, не бесконечен, а достижим только бесконечным приближением (как многоугольник в круге), так и идеал внешнего совершенства, царства б[ожия] (льва с ягненком и дальше...) достижим только в бесконечности, и что потому поверку своих поступков человек должен искать не во внешнем сравнении себя, своих достоинств с идеалом внутрен[него] совершенства (будьте соверш[енны] как отец), не с внешним идеалом царства б[ожия], а во внутреннем сознании наибольшего, возможного в его положении, исполнении воли пославшего. Вроде как работник, ко[торому] от хозяина велено бить молотом и к[оторо]му нечего заботиться о том, что от его ударов не разбивается сразу то, что он разбивает, и о том, что завод, на кот[ором] он работает, не кончит всю работу к празднику, а к[отор]ому надо только делать в том, к чему он приставлен, всё, что он может, твердо веруя, что то, что он делает, нужно и разумно.
Нет, не сумел сказать: надо не думать о том, как бы мне сделать как можно более важное дело, отличиться, и о том, что выходит из того, что я делаю, а только о том, как бы мне не прозевать чего на том месте, к к[оторому] я приставлен. А дело делается и сделается и без меня. Я же имею счастье быть участником его. Так как бы мне воспользоваться этим счастьем и не подгадить. —
Напишите, пожалуйста, о себе и о Гастеве. Скажите Л[ьву] П[авловичу], что я благодарю его за книги, я не успел еще295 296 прочесть их, но просмотрел, и Достоевск[ого]. Как я и ждал, мне нравится, хотя жалко, что из одного «Дневника Писателя»,3 a Enfantin4 менее нравится — неясностью, поднятостью выражений, хотя мысль о вечной жизни я вполне разделяю. На-днях б[ыл] Дунаев и ходил к Буткевич[ам], и вынес самое хорошее впечатление. Я нынче нездоров — простудился и оттого неясно пишу.
Пишите, я буду отвечать. Что делаете и собираетесь делать?
Л. Т.
Не взыщите за нескладность письма, я 2-й день в сильнейшем гриппе — кашель и жар.
Впервые опубликовано (без последней фразы) в журнале «Минувшие годы» 1908, 12, стр. 301—302. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 10 мая (см. т. 52, стр. 31).
Письмо Рахманова, на которое отвечает Толстой, неизвестно. В комментарии к переписке с Толстым Рахманов замечает по поводу публикуемого письма Толстого, что оно было написано в ответ на его письмо, в котором он высказывал «свои сомнения по вопросу о насилии» (В. Р[ахманов], «Семь писем Льва Николаевича Толстого» — «Минувшие годы» 1908, 12, стр. 300—301).
1 Никифоров.
2 Абзац редактора.
3 См. прим. 3 к письму № 269.
4 Бартелеми-Проспер Анфантен (Enfantin, 1796—1864), представитель утопического социализма, последователь Сен-Симона (1760—1825), а с 1831 г. глава сен-симонистов и «верховный отец» («père suprême»). Никифоров прислал Толстому его книгу: «La vie éternelle passée — présente — future», Paris 1861 («Вечная жизнь прошлая — настоящая — будущая»). В яснополянской библиотеке нет книг Анфантена.
304—305. С. А. Толстой от 9 и 10 мая 1891 г.
* 306. А. В. Алехину.
1891 г. Мая 14. Я. П.
Пишу вам, дорогой А[ркадий] В[асильевич], рукой Маши, потому что у меня сильное воспаление век. Вчера получил ваше большое письмо, а нынче следующее за ним. Очень, очень рад был известиям о вас и — таким хорошим.296
297 На три пункта постараюсь ответить: 1) о воскресении и бессмертии личном, 2) о личном боге и его участии в нашем спасении и 3) главное, о средствах объединения.
1) Места из Павла о воскресении, которые вы приводите, как и большая часть писания Павла, мне представляются неясными и неточно выраженными: воскресение Христа — одно, наша надежда на вечную жизнь — другое, и нет прямой связи между тем и другим.
То, что вы пишете нынче о переходе сущности жизни, искры божией, находящейся в нас в этой жизни, в другую форму, но без памяти и сознания, я также понимаю. Но боюсь и считаю излишним много думать об этом и определять словами. Вера в бога, преданность его воле не только заменяет, но дает бессмертие. Верить в бога, предаваться его воле и верить в бессмертие личное есть плеоназм — новое доказательство того, что уже доказано. Если я точно сердцем говорю: да будет воля твоя, как на земле, так и на небе, т. е. как в временной этой жизни, так и в вечной, то мне не нужно никаких ни утверждений, ни доказательств бессмертия. Отдаюсь воле бесконечного существа, благословляю эту волю, знаю, что она есть любовь, так чего же мне еще? Всё равно, как работник говорит хозяину: сколько пожалуете, а потом еще хочет определить цену! Если я отдаюсь на его волю, то зачем мне выговаривать бессмертие, да еще личное.
2) То, что вы пишете об участии бога и личного бога в спасении нашем, я не понимаю.
Говорить о боге, что он личный или безличный, есть кощунство. Он — тот, который есть, от которого я исшел и к которому я иду. А кто он и какой он — не знаю и не могу знать.
Знаю только то, как я должен относиться к нему. О том же, как он относится ко мне, я не могу знать. Да и верное или неверное знание или догадка об его отношении ко мне не изменяет этого отношения.
Мне нужно знать, что делать мне, чтобы спастись, а что ему делать, чтобы меня спасти, он знает и будет делать, и рассуждать об этом мне бесполезно.
3) Теперь главный вопрос для всех и для меня: о средствах единения.
Представляю себе мир храмом, в котором свет падает только сверху в середине. Этот свет есть божеская истина. Люди рассыпаны297 298 везде в пределах темного храма. Все попытки их объединиться в углах храма, в темноте, с целью объединения, были и будут тщетны. Одно средство единения есть то, которое и не ставит себе это целью, но одно достигает его, это стремление каждого отдельного человека к свету истины, к средине храма.
Люди в темноте должны оставить всякие попытки единения и стремиться к одному свету истины, к богу. И не думая об единении, а стремясь только к середине, к свету, они, по мере приближения к нему, найдут истинное, ненарушимое, вечное единение, прежде с богом, а потом между собой.
Церковь, видимая церковь, которой вы так желаете, есть излишнее подтверждение доказанного: в церкви те, кто со Христом; так насколько мы будем с ним, настолько мы и будем в церкви. Для чего же нам еще видимая церковь? Для чего человеку начертание окружности, когда ему дан ее радиус?
Ведь подумайте, если есть теперь тысяча истинных христиан среди ста миллионов русских (и то ведь много), то придется один христианин на сто тысяч. И не забудьте, что истинные христиане таковы, что они не идут на площади, провозглашая себя христианами, а сидят незаметными во внешних проявлениях и потому неизвестными своим современникам, по своим углам. Какая же вероятность есть при этом, чтобы у нас в России сошлись или хотя бы знали друг друга не говорю тысячи, но хоть сотни таких людей, которые могли бы представлять из себя видимую церковь?
Если есть церковь, в том смысле, в котором вы ищете ее, т. е. из людей истинно верующих и праведных, то и эта церковь состоит из людей, живущих прошедшие века и теперь живущих, разбросанных по лицу земли.
Но кроме того скажу прямо, что понятие церкви, собрания избранных, лучших есть понятие не христианское, гордое, ложное. Кто лучший, кто худший? Петр был лучшим до петуха, а разбойник худшим до креста. Разве мы не знаем в самих себе то ангела, то дьявола, которые перемешиваются в нашей жизни так, что нет человека, который бы совсем изгнал из себя ангела, ни того, у которого из-за ангела не выступал бы иногда дьявол? Как же нам, таким пестрым существам, составлять собрание избранных, праведных?
Есть свет истины и есть люди, со всех сторон приближающиеся к нему, — с стольких разных сторон, сколько есть радиусов298 299 в круге, стало быть до бесконечности разнообразными путями. Будем всеми силами стремиться к свету истины, объединяющему всех, а насколько мы близки к нему и объединены — судить не нам.
Так вот, дорогой друг и брат, всё, что я думаю и чувствую об этих предметах, которые для меня важнее жизни.
Об единении хочется сказать еще следующее: мешает единению еще и то, что люди, сойдясь у света и придя к нему разными путями, вместо того, чтобы радоваться своему соединению, начинают спорить о том, каким путем удобнее и следует другим итти. Что мне за дело до того, как пришел туда, куда он пришел, тот чудный старец, о котором вы пишете мне.1 Если бог дал радость встретиться с таким человеком, то можно только желать учиться у него, укрепляться от него. А мы часто начинаем спорить.
Все сомнения наши возникают, как не может быть иначе, от недостатка веры: каково бессмертие? Личное или нет? Как и участвует ли бог в нашем спасении? Нахожусь ли я в истине, или нет, т. е. в церкви? — Всё это попытки чем-нибудь заместить отсутствие веры.
Церковные христиане крестятся и миропомазывают, чтобы приобщиться к Христу и спастись. Казалось бы, всё сделано; но нет, они еще исповедуются, причащаются, молятся о своем спасении и заставляют молиться других, — не только богу (всем трем лицам), но богородице, святым, мощам, иконам; кроме того, верят в искупление, которое, в сущности, одно уже обеспечивает спасение; сейчас перед смертью исповедуются, причащаются, соборуются; в руки мертвому дают молитву, над мертвым и за мертвого молятся, — всё, чтобы обеспечить свое спасение. Ясно, что они не верят ни в одно из этих средств, потому и употребляют их все. Не верят, главное, в бога.
То же отчасти делаем и мы, когда ищем разрешения вопросов: участия бога в спасении, о личном бессмертии, о церкви.
Христос, умирая, сказал: «Отец, в руки твои отдаю дух мой». Для того, кто может сказать эти слова, разумея их во всем их значении, ничего больше не нужно: вера, истинная вера разрешает всё.
А чтобы иметь эту веру, надо воспитывать ее в себе. А чтобы воспитывать, надо творить дела веры.299
300 Сущность дел веры не в подвигах, а — в делах, может иногда незаметных, ничтожных, но творимых несомненно и исключительно для бога.
Умирать придется одному, сказал Паскаль.2 И жить надо одному, перед одним богом, а не перед людьми. В той мере, в которой достигаешь этого, — и достигаешь веры; а вследствие веры — устранение всех сомнений; и то, главное (о чем вы пишете и я думаю), — единение с богом, а через бога — со всеми.
Прощайте. Душевно благодарю, что пишете. Продолжайте извещать о себе.
Искренно любящий вас.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Три отрывка впервые опубликованы в журнале «Единение» 1916, 1, стр. 6. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 22 мая (см. т. 52, стр. 32).
Ответ на два письма Алехина: одно несохранившееся, другое от 2 (или 21 — дата почти стерлась) апреля, с вопросами религиозного характера и об «общинной» жизни.
1 Во втором письме Алехин писал о старике-сектанте (штундистемистике), о его жизни и взглядах.
2 См. «Pensées de Pascal, précédées de sa vie par m-me Perier, sa soeur», Paris 1850, Article VII, «Misère de l’homme», pp. 72—82 («Мысли Паскаля, со вступительной биографической статьей его сестры г-жи Перье», Париж 1850. Статья VII, «Слабость человека»).
307. В. Г. Черткову от 15 мая 1891 г.
308. М. Л. Толстой.
1891 г. Мая 21. Я. П.
Вчера ходили на Козловку с Таней и Верой.1 Я получил письмо от Бидина (знаешь, лифляндец).2 Он бедствует в Риге, и я написал Зиновьеву М.3 Там только что проехал поезд императ[о]р[ский].4 Вечером Лева, ездивший с мальчиками в Ясенки, привез письма: от Элпидина 5 и, главное, от Мар[ьи] Ал[ександровны], к[оторое] и посылаю тебе. Ответь ей. Я нынче еще не успел ответить. У нас мирно. Кефир твой отворожился, п[отому] ч[то] у Маши Куз[минской] болели зубы вчера, и они нынче с Мар[ьей] Кир[илловной]6 делали новый. Больная300 301 б[ыла] из Деменк[и],7 очень тяжелая. Приезжал верхом ее муж, мама дала ей лекарство, предполагая, ч[то] это перетонит. Ваше письмо приехало,8 я еще не спал. Мама ездила в коляске провожать Фетов,9 а я дожидался ее. Нынче утром Фомич сообщил известие, ч[то] крестьянин, возивший нам уголья, тот, которого избу ломают другой раз, повесился.10 Не знаю, правда ли, не узнал еще. Было бы ужасно. Я писал утром довольно много. Вера и Таня предлагают свои услуги,11 но еще не нужно. — Левино вчера было рождение. Все забыли, и, я думаю, ему было грустно.
12Фет говорит, что он завидует молодым за то, что они сильны и молоды, а я говорю, что если человек поставил себе целью быть тем, чему учит Хр[истос], т. е. отречься от себя и жить для бога, то старость приближает к этому положению, и потому выгоднее быть христианином, чем язычником. — Притом еще и то, что взгляд этот на жизнь христианина не придуман затем, чтобы облегчить старость и смерть, а выведен из других совсем соображений; а это его сверхкомплектная выгода. — И нынче думал: старость это точно как давка у двери, выходящей на чистый воздух. Что больше сдавлен, что меньше сил, то ближе к двери.
Ну, смотри же, хорошенько живи, почаще молись, вспоминай, перед кем живешь, и не спеши ни в чем. — Кланяйся всем, и большим и малым.
Целую тебя.
Адрес Мар[ьи] Ал[ександровны] как?
Л. Т.
Впервые опубликовано по-немецки в книге П. И. Бирюкова «Vater und Tochter. Tolstois Briefwechsel mit seiner Tochter Marie», Zürich und Leipzig 1927, стр. 29—30 («Отец и дочь. Переписка Толстого с его дочерью Марией»). Датируется на основании упоминания о дне рождения Л. Л. Толстого (20 мая).
Мария Львовна Толстая (1871—1906) — вторая дочь Толстого, в замужестве (с 1897 г.) Оболенская. Письмо Толстого написано в Паники, имение Философовых, где Мария Львовна в то время гостила.
1 В. А. Кузминская.
2 Иван Петрович Бидин, исключенный из семинарии в Риге, бывший у Толстого в Ясной Поляне 30 мая 1890 г. В письме от 17 мая 1891 г. писал о своем трудном материальном положении в связи с отсутствием заработка.301
302 3 Михаил Алексеевич Зиновьев (1832—1895), лифляндский губернатор, знакомый семьи Толстых, брат тульского губернатора Н. А. Зиновьева. Письмо к нему Толстого неизвестно.
4 20 мая 1891 г. из Москвы через Тулу проехали в Крым в специальном поезде императрица Мария Федоровна, жена Александра III, с дочерью Ксенией.
5 Это письмо М. К. Элпидина неизвестно.
6 Мария Кирилловна Кузнецова (р. 1867), домашняя портниха Толстых.
7 Деменка — деревня около Ясной Поляны.
8 Оно неизвестно.
9 Поэт А. А. Фет с женой Марией Петровной.
10 М. Ф. Крюков рассказал про крестьянина из деревни Головеньки (около Ясной Поляны), судившегося со своими братьями и повесившегося после того, как у него по постановлению суда сломали избу.
11 По переписке книги «Царство божие внутри вас».
12 Абзац редактора.
309. В. И. Алексееву.
1891 г. Мая 22. Я. П.
Очень рад б[ыл] получить от вас известие, дорогой В[асилий] И[ванович], а то долго ничего не знал о вас, я уж боялся, что вам не хорошо; рад особенно тому, ч[то] ваша жизнь сложилась так хорошо. Очень жаль, что не пришлось повидаться и познакомиться с вашей милой женой, к[оторую] люблю уж за то, ч[то] она вас любит. М. Арн[ольд] правда, что труден.1 Есть ли теперь охота и надобность в переводной работе? Хотя очень трудно найти помещение переводам, так много переводчиков и у каждого журнала свои, я бы поискал что полегче. Вы пишете о своем душевном состоянии (ч[то] интереснее для меня всего), ч[то] молитвенное настроение наступает редко, а ч[то] больше состояние, подобное сну. Это общий удел людей, важно только знать, что состояние сна есть состояние сна и не верить ему, а верить одному бодрственному состоянию, когда чувствуешь свое общение с б[огом]. А то бывает, что оба состояния считаешь равноправными и безразлично отдаешься тому и другому. Этого не надо. Я стараюсь всегда, когда сонное состояние тяготит, когда в нем являются соблазны, не верить им, а вспомнить, что я сплю, как это вспоминаешь в кошмаре, и очнуться.
2Мы живем хорошо. Я очень занят писанием: пишу всё то же, стараясь уяснить необходимость принятия христианского302 303 жизнепонимания и вытекающей из него деятельности. Пишите мне почаще. Привет В[ере] В[ладимировне] и Коле. Целую вас. Наши все кланяются.
Л. Толстой.
На обороте: Харьков. Контроль Курско-Харьковско-Азовской жел. дороги.
Василью Ивановичу Алексееву.
Впервые опубликовано в сборнике «Летописи», 12, стр. 318. Датируется по почтовым штемпелям и записи в Дневнике Толстого 22 мая (см. т. 52, стр. 32).
Ответ на письмо Алексеева от 12 мая из Харькова.
1 В. А. Алексеев писал, что жена его отказалась переводить рекомендованную Толстым книгу М. Арнольда ввиду ее трудности.
2 Абзац редактора.
310. О. А. Варшевой и М. А. Шмидт.
1891 г. Мая 22. Я. П.
Как рад был получить ваше письмо, дорогие друзья Ольга Ал[ексеевна] и Мар[ья] Алекс[андровна]. Давно не было известий, и мы нет-нет с Машей поминали о вас.
Письмо ваше я получил один, Маша в этот же день уехала с Философовыми1 в деревню. Они очень звали ее, и как ей ни совестно было тратить на это деньги и оставлять свои дела здесь — и мою переписку, и главное больных, которых к ней. ходит много, нельзя было отказать.
Маша (так как ее нет теперь и она не прочтет этого письма) большая для меня радость. Я вижу, что она твердо стала на тот путь, на котором не может быть ничего дурного, а есть только одна радость всё большего и большего приближения к богу. Что бы с ней ни случилось, как бы и чем бы она ни увлеклась, (я нарочно допускаю эту возможность, в которой нет никакого вероятия), она не сойдет с того пути, который ведет к свету через все возможные испытания и искушения этой жизни. Она всегда недовольна собой, никогда не придумывает оправданий себе и своей жизни, а постоянно всё выше и выше ставит себе требования и, не замечая того, всё делается лучше и лучше.303
304 В семье нашей идет всё по-старому. Ваш фаворит, М[арья] А[лександровна], — Илья, очень жалок, увлекается роскошной и праздной помещичьей жизнью и чует в глубине души, что это не благо, старается забыться, не думать. Я говорю с ним, когда могу, но «никто не придет ко мне, если не Отец привлечет к себе». Пути, которые идут все к одному и тому же, бесконечно разнообразны, и я верю, что он придет. Ближе всех ко мне после Маши Лева. Он в университете, перешел было с медицинского на филологический, а теперь хочет опять на медицинский. Опасно то, что он написал 2 повести, одну детскую в Роднике «Монте-кристо» — хорошую, другую, тоже недурную по мысли, в книжке Недели под заглавием «Любовь», подписано Львов.2 Он идет вперед, живет. Что будет, не знаю, но с ним мне радостно общаться. Соф[ья] Ан[дреевна] на-днях была в Петерб[урге], и была у государя, и он разрешил напечатать «Крейц[ерову] Сонату». Она очень этому рада. Она не совсем здорова и кланяется вам. Письмо ваше я отослал Маше, но, кажется, там неясно описано, где вы теперь, как далеко от прежнего места. Опишите поподробнее. Кажется, что эта ваша аренда хорошо будет вам. Да вам всё хорошо, потому что вы сами хороши. Мы часто думаем о вас, О[льга] А[лексеевна], по случаю смерти Наденьки,3 и я так понимаю ваше доброе и грустное чувство теперь. Я когда-то хотел написать такую басню, миф, что люди на салазках скатываются в пропасть, где они должны разбиться вдребезги, так что ничего от них не останется, и они дорогой, сидя на этих самых салазках, спорят и ссорятся о том, что один другому не дает усесться попокойнее или пачкает его одежду. Единственное дело, которое стоит делать нам всем на этих салазках, это то, чтобы вызвать радостную любовную улыбку друг у друга — вызвать любовь, то одно, что не разобьется в пропасти, а останется.
Я много занимаюсь писаньем. Пишу очень медленно, переделываю бесчисленное число раз и не знаю, происходит ли это оттого, что ослабели умственные силы, в чем дурного ничего нет, только бы способность любви росла, или оттого, что предмет, о котором пишу, очень важен. Предмет всё тот же — необходимость для людей нашего времени принять на деле учение Христа и что из этого будет.
Прощайте пока, целую вас.
Л. Толстой.304
305 Печатается по рукописной копии из AЧ. Автограф сгорел. Отрывки впервые опубликованы в Б, III, стр. 188, и в журнале «Голос минувшего» 1919, № 5—12, стр. 177—178. Полностью опубликовано в книге Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт», М. 1929, стр. 37—38. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 22 мая (см. т. 52, стр. 32).
Письмо Шмидт и Баршевой, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
1 После слова: Философовыми в другой (неполной) рукописной копии этого письма в тетради № 15 AЧ имеется слово: девочками.
2 Об этих двух рассказах Л. Л. Толстого см. в письме № 180.
3 Двоюродная сестра О. А. Баршевой. О ее смерти О. А. Баршева сообщила в приписке к письму М. А. Шмидт от 5 мая.
* 311. П. И. Бирюкову.
1891 г. Мая 24. Я. П.
Получил ваше письмо и очень рад б[ыл] ему. Спешу ответить, п[отому] ч[то] боюсь забыть те мысли, к[оторые] оно вызвало.
1О «гармонии». Да, гармония есть свойство б[ога]. Но это не то свойство, к[оторое] мы можем поставить себе образцом для подражания, как мы можем и должны ставить себе образцом любовь, уже п[отому], ч[то] гармония б[ога] проявляется в бесконечном, безграничном, наша же в граничном. Для достижения наибольшей гармонии надо стремиться к покорности воле б[ожьей], к смирению, к любви, а не к гармонии. Мы не можем ставить ее целью, п[отому] ч[то] не можем определить ее, живя во времени и пространстве, ограничивающими нас и скрывающими от нас будущее и недоступное нам пространство. Можно ошибиться и наверное ошибешься и нарушишь гармонию, поставив ее себе целью. Это я думаю о гармонии. Но я ахнул от удовольствия, прочтя ваши замечания о том, ч[то] звереешь от излишней физич[еской] работы и что п[отому] тем более не должно наваливать ее на других. Это одно из тех дорогих, кратких, ясных выраже[ний] мыслей, убеждающих больше диссертаций.
М[аша] поехала к Филосо[фо]в[ым] на неделю. Ha-днях приедет. Поцелуйте от меня А[лександра] П[етровича].2 Как я рад, ч[то] он не в Моск[ве], а у вас. — Мне не удалось работать в поле весною, думаю попытаться с покоса. Письменная работа медленно подвигается, также и духовная работа. Пишите чаще,305 306 дорогой друг. Целую вас. Передайте мой привет матери и брату.3 Любящий вас
Л. Т.
На обороте: Кострома. Деревня Ивановское.
Павлу Ивановичу Бирюкову.
Датируется на основании почтовых штемпелей.
Ответ на письмо Бирюкова от 18 и 20 мая (написано в два приема), в котором Бирюков писал о своей жизни и работе на хуторе; сообщал свои мысли о физическом труде.
1 Абзац редактора.
2 А. П. Иванов.
3 Сергей Иванович Бирюков (р. 1858), с 1889 г. был земским начальником в Костромском уезде; позднее был вице-губернатором в Томске и в Нижнем-Новгороде.
312. В. Г. Черткову от 24 мая 1891 г.
* 313. П. Г. Хохлову.
1891 г. Мая 27. Я. П.
Получил ваше письмо, дорогой Петр Галактионович, и сажусь отвечать, сам не зная, что напишу вам, но хочется высказать то сочувствие, которое вызвало во мне ваше письмо. Спасибо, что написали, открыли мне душу: вы говорите, вам легче; и мне легче, зная, что есть люди, так чувствующие и думающие, как вы.
Вы говорите о чередующихся подъемах и упадках духа и думаете, что это ваша особенность, болезнь, от которой можно излечиться. Сколько я понимаю, это волнообразное движение подъема и упадка есть необходимое условие духовной жизни — как день и ночь, сон и бдение. Надо только узнать, что это так и что ночь — ночь, и не пугаться ее и ждать утра. И главное, пользоваться днем, т. е. периодом подъема, сколько можно, зная, что наступит ночь, когда уже нельзя будет работать. Мне, по крайней мере, это знание того, что жизнь слагается из дня и ночи, помогает жить: не тратить даром периода света, а пользоваться им сколько можно и не отчаиваться в периоды тьмы.306
307 Ваше положение я понимаю совершенно; я так именно и представлял себе его.
Чем больше думать о том, что выйдет из того, что делаешь, чем дальше заглядывать вперед, тем положение ваше, да и всех нас представляется тяжелее, а чем меньше заглядывать вперед, делая только то, что сейчас надо, должно, чем больше вбирать в себя, в настоящее растянутое ка будущее предположение, тем легче.
Как разрешится ваше затруднение с требованием говения, я не могу себе и представить. Очень жаль, что это так огорчает вашего отца,1 но решительно нельзя придумать, чем бы успокоить его.
Как хорошо вы говорите, что чем совершеннее хочешь ответить на требования жизни, тем труднее становится жить; а все-таки она одна только и есть такая жизнь.
Ге младший был зимой у нас. Он живет прекрасно с крестьянкой-женой, двумя детьми, трудится для других в самых коренных условиях и что же? он вспоминает с умилением про свою жизнь в Москве, когда он жил конторщиком и бегал по городу в летнем пальто, помогая людям, живущим в еще худших условиях. Красота, доброта жизни, оцениваемая всегда верно воспоминанием, определяется не внешними условиями, а внутренним движением, ускорением движения. Это я говорю к тому, чтобы вы не думали, что ваша теперешняя жизнь тяжела от внешних условий. Может быть, вы также с умилением будете вспоминать ее, как Ге.
Аркадий Алехин у штундистов под Одессой живет в работниках, пишет хорошие письма, у Митроф[ана] Алехина и Дудченко начались гонения. Дудченко разлучили с женой и племянником — выслали. — Я пишу понемногу. Пишите чаще. Любящий вас истинно.
Кантора желание постараюсь исполнить.2 Сочинение, которое я пишу, я уже обещал переводчику.3 Написать же редактору сейчас не могу, но при первом случае сделаю.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Датируется на основании записи в Дневнике Толстого 27 мая о получении письма Хохлова и намерении отвечать на него (см. т. 52, стр. 34), слов в письме к М. Л. Толстой (см. № 314) о получении писем Хохлова и Дудченко и об ответе «только Хохлову» и письма к М. С. Дудченко, написанного 28 мая (см. № 315).307
308 Петр Галактионович Хохлов (1868—1896) — в то время студент Московского высшего технического училища, участник смоленской земледельческой общины Шевелево.
Ответ на недатированное письмо Хохлова с почтовым штемпелем «Москва, 25 мая 1891», в котором Хохлов писал о своей жизни, занятиях в училище и о своих столкновениях с отцом на почве увлечения «толстовством».
1 Галактион Иванович Хохлов (р. 1842), московский биржевой маклер. П. Г. Хохлов в письме своем сообщал Толстому, что в училище от него требовали свидетельство о «говении», которого у него не было, так как он отказался итти к священнику исповедоваться. Это обстоятельство вызвало гнев его отца.
2 Хохлов передавал просьбу своего друга Кантера, уехавшего в Нью-Йорк, помочь ему присылкой не напечатанных за границей сочинений Толстого для перевода. Считая, что Толстой, безразлично относящийся к времени и месту печатания своих произведений, в этом отношении помочь Кантеру не может, Хохлов от себя просил Толстого написать редактору какой-нибудь нью-йоркской газеты с просьбой дать Кантеру работу. На запрос нашей редакции Кантер в письме из Нью-Йорка от 8 октября 1929 г. ответил, что он никаких отношений с редакторами нью-йоркских газет через посредство Толстого не имел. Но через несколько месяцев по приезде в Америку он неожиданно получил письмо от шекера Эванса, сообщавшего, что Толстой писал ему о нем, и приглашавшего его переехать в коммуну. В коммуне шекеров Кантер прожил всего несколько дней.
3 Рукопись «Царство божие внутри вас» для перевода Толстой обещал дать Э. М. Диллону.
314. М. Л. Толстой.
1891 г. Мая 27. Я. П.
Посылаю тебе П[ошино] письмо, очень хорошее. Я отвечал ему. Мне особенно понравилось то, что он говорит о том, ч[то] т[ак] к[ак] физ[ический] труд озверяет, то тем более мы не должны наваливать его на других. Еще письма были очень хорошие от Хохлова, к[оторого], бедного, заставляют говеть для экзаменов. Он всё сделал, но этого не может. А еще Дудченко, около Хилкова, к[оторый] женился на Симонсон. Ее от него взяли и выслали с этапом в Курск,1 а племянника2 тоже выслали. Что будет дальше? Я рад, что он написал мне; но не успел еще ему ответить. Нынче написал только Хохлову. Я все эти последние дня три в страшной апатии, ничего не писал. Нынче поработал — колья рубил и немного проснулся. Рад б[ыл]308 309 очень твоему письму:3 что тебе хорошо, что тебя любят. Живи, пока хочется и радостно. У нас всё благополучно, и тебя тоже все любят. Девочки кто-то писал тебе и потому, верно, писали о посетителях. Целую тебя
Л. Т.
Впервые опубликовано с датой «1889» в журнале «Всемирная иллюстрация» 1923, 11, стр. 20. Датируется на основании упоминания о письме Хохлову (см. прим. к письму № 313).
1 О высылке Марии Федоровны Симонсон см. письмо № 315.
2 Николай Иванович Дудченко (1870—1917), племянник М. С. Дудченко, участник нескольких земледельческих общин. В 1891 г. работал в Сумском уезде, откуда был выслан за «вредное влияние» на крестьян. Летом 1892 г. работал с Толстым на голоде в Данковском уезде. Позднее эмигрировал сначала в Англию, потом в Канаду, где и умер.
3 Оно неизвестно.
* 315. М. С. Дудченко.
1891 г. Мая 28. Я. П.
Очень рад был войти с вами в прямые сношения, дорогой Митрофан Семенович, хотя и по случаю, не скажу тяжелых, но требующих напряжения условий, в к[оторых] вы находитесь, т. е. вы и ваша жена.1 Тяжелыми нельзя признать никакие условия, п[отому] ч[то] тяжесть проистекает не из внешних условий, а из своего отношения к ним. Тяжело бывает только оттого, что поступаем не вполне сообразно с своею совестью, или поступили уже не сообразно с своей совестью, а выше или ниже ее требований. И это мы делаем беспрестанно. Этого нельзя не делать. И наступает потом испытание или искушение, во время которого приходится сообразовать свои поступки с совестью: если они были ниже ее требований, приподнять их (поступки) до требований или спустить. В таком положении находитесь и вы теперь, как мне кажется. Вы подвергаетесь искушению, и любящему вас может быть жалко и страшно за вас, и я не могу удержаться от этого чувства, и мне и жалко и страшно за вас, и еще более за вашу жену, к[отор]ую я знаю — хотя не лично — но более вас; но любящему вашу душу, как я преимущественно люблю вас обоих, то, что вы подвергаетесь искушению,309 310 может быть только радостно. Радостно то, что волей-неволей отделится в огне чистое золото от примесей. Какой бы ни был результат этого отделения, какой бы малый % ни получился, это все-таки будет чистое золото, и это хорошо. Допустим, что вы, для избавления себя и жены, главное, от непосильных ей страданий, решились бы обвенчаться и потом, сознавая то, что, сделав это, вы сделали дурно, отдались слабости, вы продолжали бы жить, как вы живете, я думаю, что ваша жизнь была бы лучше и чище, чем если бы вы жили с ложной уверенностью, что вы победили врага и что ничто не может заставить вас уступить. Даже и в этом худшем случае было бы. лучше — правдивее и смиреннее; в лучшем же случае, т. е. что вы выдержите испытание, не поддавшись слабости, и ваша жизнь несомненно будет радостнее, каковы бы ни были внешние условия. —
2Мне, сидящему спокойно, старому и не подвергающемуся испытаниям, жутко давать советы; но скажу то, что я всей душой и перед богом думаю, дам все-таки совет. Совет мой в том, чтобы вы, разрешая те вопросы, к[оторые] предстоят и будут предстоять вам, остерегались руководиться мнением людей, хотя бы самых лучших и самых дорогих вам людей. При каждом разрешении вопроса: поступить так или этак? спросите себя, как бы вы поступили, если бы вы знали, что вы к вечеру умрете и никто никогда не узнает о том, как вы поступили. Поступок самого низшего порядка, но совершенный вполне правдиво, только для бога, без сравнения дороже, т. е. принесет больше блага себе и другим, чем поступок самый возвышенный, самоотверженный, совершенный для людей, к[оторый] не сделан бы был, если бы люди не знали про него. Мне совестно писать про это, п[отому] ч[то] вы всё это знаете; но, говоря это, напоминаю, п[отому] ч[то] по моему опыту только это делание перед одним богом разрешает те дилеммы, из к[оторых] и слагаются испытания.3
То, что я начал писать и замарал — это о Хохлове — ваша жена знает его, — от к[оторого] я на-днях получил письмо. Его заставляют говеть в технич[еском] училище, а он заявил священ[нику], что считает церковь главной гонительницей Христа. Я хотел привести его пример, как он уступил отцу, в чем мог, а остановился в том, ч[то] б[ыло] выше его нравственных сил.310
311 Помогай вам б[ог]. Пишите мне, пожалуйста, о том, что будет дальше.
Любящий вас Л. Толстой.
28 мая.
Почти полностью (с многочисленными искажениями) впервые напечатано в ПТС, I, № 161, стр. 204—206 («Г-ну NN»). Год в дате дополняется по содержанию письма.
Митрофан Семенович Дудченко (1867—193...) — близкий по взглядам Толстому; в 1887—1891 гг. жил на хуторе в Сумском уезде Харьковской губ., занимаясь сельским хозяйством.
Ответ на письмо Дудченко от 21 мая, в котором Дудченко сообщал о высылке своей жены и писал о своем к этому отношении; просил Толстого высказать «свое мнение и совет по этому поводу».
1 Мария Федоровна Симонсон (1867—1903), первая жена М. С. Дудченко, бывшая слушательница Петербургских высших женских курсов. Причиной ее высылки с хутора Дудченко послужило «вредное влияние на народ» ее «сожительства с Дудченкой», с которым они не венчались, отрицая религиозные обряды.
2 Абзац редактора.
3 Далее тщательно замарано: что не над[о] ученику технического училища Хохлову.
* 316. А. С. Буткевичу.
1891 г. Июня 4. Я. П.
Я и не думал осуждать вас, дорогой А[натолий] С[тепанович], я только оправдываю или скорее объясняю себе свое отношение к деньгам. И очень рад случаю еще раз, и для себя преимущественно, высказать свое отношение к ним, а это очень нужно.
Денежный соблазн очень тонкий, и очень легко запутаться в нем. Мне он особенно близок, потому что окружал и окружает меня. В том, что деньги зло (я не помню, выражал ли я так, но если и не выразился, то готов принять это выражение), нет никакого сектантства, а простое утверждение того, что зло — зло; кнут, штык, пушка, тюрьма, всякое орудие насилия, если и не есть само по себе зло, то без опасности ошибки может быть названо злом; деньги тоже орудие насилия и потому — зло или назовите, как хотите, но только такая вещь, которой я пользоваться не желаю, и точно так же не желаю участвовать в пользовании и распределении их. Не желаю же пользоваться311 312 и участвовать в пользовании ими потому, что они орудие насилия. Приобретать деньги значит приобретать орудия насилия, распределять деньги, употреблять их, направлять их значит распоряжаться насилием. При крепостном праве помещик посылал своих рабов работать тому, кому он хотел благодетельствовать; теперь мы делаем то же самое, давая деньги или выпрашивая их в одном месте и давая другому. Дать человеку 20 рублей в месяц значит прислать рабов работать на него каждый месяц. Распоряжаться так чужим трудом я считаю неправильным и потому избегаю денег, распоряжения ими и участия в их распределении. И этот вопрос я решил таким образом давно и давно уже повел и жизнь и свои рассуждения в этом направлении. Подтверждением в моем таком взгляде на деньги служит мне еще и то, что в продолжение моей 63-летней жизни я бесчисленное число раз делал и терпел зло от денег и ни разу не делал, не терпел зла от недостатка их. Кроме того, всякий раз, когда мне бывало нужно денег, когда я поддавался этому соблазну и мне отказывали в деньгах и еще напоминали, что деньги никогда не нужны на добро, то я всегда был благодарен за это и потому заключаю по правилу: «делай другому то, что желаешь, чтобы тебе делали», что если я не буду в состоянии никому давать деньги, то я никому этим не сделаю зла. И решив дело так, я сообразно с этим повел свою жизнь. Если бы я считал, что деньгами можно сделать добро, то я не только не отказался бы от распоряжения собственностью и приобретением ее, но старался, как Иоанн Кронштадтский или как Бутс, увеличивать свои средства, чтобы сделать ими добро. Но так как я пришел к обратному заключению, то я так и распорядился своею жизнью: я не только не имею возможности располагать деньгами, считающимися моими, но не могу даже и у других выпрашивать денег. Самый близкий человек мне — жена, если я спрошу у нее денег, всегда скажет, и совершенно справедливо: «Как же ты говоришь, что денег не нужно? Зачем же ты свалил на меня всю заботу приобретения и удержания денег, говоря, что они не нужны, а теперь просишь их». То же скажут и говорят все другие, к кому обратишься за деньгами. Кроме того, в деньгах нуждаются все мирские люди, и как вы знаете, чем ниже в нравственном отношении, тем больше, и потому всякие деньги окружают толпы таких людей и никогда нет ни у кого многих1 денег. Всякие деньги надо давать с борьбой.312
313 Нет, дорогой А[натолий] С[тепанович], я думаю, что вы недостаточно вдумались в этот вопрос. Тут нет никакого сектантства, а только ясность в вопросе очень запутанном. Если мне удалось с большим трудом и страданиями выпутаться из этой запутанности, то это произошло вследствие особенных условий моего положения, в которых я волей-неволей должен был разобраться. Деньги есть средство насилия, как кнут, цепи и т. п., и потому если можно и кнут употребить на повод и цепи и деньги на какое-нибудь безвредное дело, то это не доказывает, чтобы и кнут, и цепи, и деньги были хорошее или даже безразличное дело. И я думаю, что если я буду стараться не иметь у себя в руках кнутов, цепей, пистолетов, денег, то тут ничего не будет дурного; а напротив, если скажу себе, что могут быть случаи, когда пригодятся и кнут, и пистолет, и деньги, и что не нужно брезгать этим, то может быть очень нехорошо. Всё, что вы говорите о том, что человеку, желающему иметь что-либо безразличное, страдающему от лишения чего-либо безразличного, не должно отказывать, несмотря на то, что я знаю, что то, чего он желает, не нужно ему, а, напротив, должно стараться дать ему радость, избавить его от его горести — совершенно справедливо: но только не относительно [не] безразличного предмета, как деньги. Человек желает иметь 10, 30, 300 р. в месяц, чтобы что-то сделать. Желание его не безразлично: он, сам не зная того, желает иметь рабов, которые служили бы ему. Я не думаю, чтобы было хорошо содействовать ему в этом. Так стоит дело теоретически. Практически же я не могу содействовать этому.
Пожалуйста, дорогой А[натолий] С[тепанович], вдумайтесь во всё это. Я всё это пишу не для спора, не для отстаивания своего мнения (очень может быть, что я резко, даже наверно в дурную минуту нелюбовно написал вам, и вы простите меня за то), а для того, что это всё доведено во мне и рассуждением, и опытом жизни, и, смело скажу, болью жизни до последней степени ясности. Деньги ни на что, кроме как на дурное, не бывают нужны; если же случится, что за деньги купишь и иначе не можешь приобрести хлеб, который отдашь голодному, то может случиться и то, что кнутом свяжешь сломавшуюся телегу и доедешь, но от этого нельзя говорить, что деньги могут быть полезны и человек в здоровом уме и в спокойном состоянии не может желать приобрести их для себя или для кого-либо другого. Деньги есть прямо отрицание положения Христа о том,313 314 чтобы не заботиться о завтрашнем дне, о том, что есть и во что одеться. Насколько пользуешься деньгами, настолько считаешь себя виноватым и стремишься всё меньше и меньше пользоваться или нуждаться в них. Как же при таком взгляде я стану для других добывать деньги?
Жалко, что не пишете, как живете вы и ваш брат с женой и детьми и Рощин. Передайте им мой привет. Всё хочется прийти к вам, да не знаю, удастся ли. От Аркадия Алехина получил письмо из-под Одессы. Он живет работником у штундиста. Живет очень напряженной жизнью. У Митрофана и Дудченко идут гонения. Племянника Дудченко выслали с этапом и также Симонсон, жену Дудченко, выслали с этапом в Полтаву. Вчера же получил от Джунковского письмо с статьей Хилкова,2 так что вы не трудитесь переписывать ее.
До свидания, если бог даст. Целую вас.
Любящий вас.
Я не знаю, кто меньше грешит: тот ли, увлеченный страстью человек, который содержит актрису, или тот светский благотворитель, который дает пенсию семействам, могущим жить проще и работать. Первый под давлением страсти употребляет орудие насилия, а второй из баловства.
Главный грех распоряжения деньгами не в том, как это кажется сначала, что я их употребляю для своей похоти или тщеславия, — тут грех похоти и тщеславия сам по себе, а грех в произвольном по своей фантазии распоряжении чужим трудом. Ведь я знаю, что каждый рубль есть средство заставить людей делать то, чего они не хотят, и потому не могу обращаться с рублем иначе, как в крайней необходимости и с страшной осторожностью, так же, как бы я обращался с электрическими проводниками, зная, что от прикосновения, перемещения их могут произойти взрывы.
Печатается по машинописной копии из AЧ. Дата копии подтверждается записью в Дневнике Толстого 6 июня (см. т. 52, стр. 37) и упоминанием об этом письме под датой «4 июня» в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
Ответ на письмо Анат. С. Буткевича без даты, с почтовым штемпелем «Крапивна, 1 июня 1891», написанное в ответ на не дошедшее до нас письмо к нему Толстого о деньгах, — повидимому, от второй половины мая 1891 г. В этом не дошедшем до нас письме Толстой отвечал на просьбу Буткевича в его письме с почтовым штемпелем «Крапивна, 13 мая 1891» помочь ученице акушерской школы Мацкиной, которую Толстой немного знал. Буткевич просил Толстого письменно обратиться к «кому-нибудь»314 315 из его знакомых, могущих ежемесячно давать Мацкиной 10—30 рублей в продолжение одного года. В письме с почтовым штемпелем «Крапивна, 1 июня 1891» Буткевич, возражая Толстому на не известное нам письмо, писал, что он несогласен с его взглядом на деньги, и «положение»: «деньги — зло» он не считает «нравственным принципом».
1 Так в копии. Возможно, что это слово неправильно разобрано переписчиком и следует читать: лишних.
2 См. об этом в письме к Д. А. Хилкову № 324.
* 317. А. Н. Дунаеву.
1891 г. Июня 7. Я. П.
Дорогой Александр Никифорович.
Вы, может быть, слышали о гонениях в Харьковской губернии на Дудченко, его племянника, к[оторого] выслали, и его жену М. Ф. Симонсон. Ей велели выехать. Она отказалась, тогда ей сказали, что ее отправят этапом. Спросили, куда она хочет? Она назвала Тверь. Ей сказали, что она может ехать на свои средства; но она отказалась, и ее отправили этапом 27 мая из Харькова. Дудченко пишет мне об этом, прося навестить ее в Туле, где она может быть в пересыльной тюрьме. Я вчера получил письмо, а нынче был в Туле; но в тюрьме ее нет и не было, и, вероятно, не будет, т[ак] к[ак] мне сказали, что из Харькова пересылают прямым сообщением в Москву. — Побывайте у нее в Москве. Посетите, утешьте, подкрепите. Мне очень больно, ч[то] я не мог видеть ее. М. Дудченко пишет, что он писал ей в Москву. Я думаю, что у вас есть свои пути для получения разрешения свидания с ней; если же нет, попросите моим именем Истомина1 — надеюсь, что он не откажет. Повод, по к[оторому] отсылают М[арью] Ф[едоровну], в том, что они смущают, совращают из православия народ; в этом смысле заставляют общества составлять приговоры. К Симонсон же придрались, п[отому] ч[то] она не венчана с Дудченко.
Ответьте, пожалуйста, словечко. Как вы живете?
Я по-прежнему, скорее худо, чем хорошо.
|
Целую вас. |
Л. Толстой. |
На конверте: Москва. Ильинка. Торговый банк.
Александру Никифоровичу Дунаеву.315
316 Датируется по содержанию (см. прим. к письму № 318).
1 Владимир Константинович Истомин (1848—1914), в 1891 г. управляющий канцелярией московского генерал-губернатора.
* 318. М. С. Дудченко.
1891 г. Июня 7. Я. П.
Был нынче, 7-го, в Туле. Вчера получил ваше письмо. М. Ф. Сим[онсон] нет в Туле, и не было, и не будет, как мне сказали, п[отому] ч[то] их из Харькова отправляют прямым сообщением в Москву. Писал в Москву Дун[аеву] навестить ее.1
Очень, очень жалею, что не удалось повидать ее.
Л. Т.
На обороте: Харьковской губернии, город Сумы, в Вировское правление.
Митрофану Семеновичу Дудченко.
Датируется на основании почтовых штемпелей и записи в Дневнике Толстого 7 июня о посещении острога (см. т. 52, стр. 38).
Ответ на недатированное письмо М. С. Дудченко с почтовым штемпелем «Сумы, 3 июня», сообщавшего, что вместо Полтавы М. Ф. Симонсон ссылают этапом в Тверь, и просившего Толстого посетить ее в Тульской пересыльной тюрьме.
1 См. письмо № 317. В письме из Москвы от 13 июня А. Н. Дунаев отвечал, что не мог посетить Симонсон, так как она уже доставлена в Тверь, выпущена из тюрьмы и находится в тверской общине Дугино.
319. А. А. Толстой.
1891 г. Мая 31 или июня 7. Я. П.
Как только я узнал, что вы приезжаете, я тотчас же собрался в Тулу, с тем чтобы с вами проехать до Ясенков. Я так радовался этому и, представьте, опоздал в Туле на 5 минут, а Таня опоздала в Ясенках. Если бог даст, увидимся теперь. Дай бог только, чтобы вы были здоровы и не раздумали заехать к нам. У нас всё благополучно. Обо многом1 хочется беседовать с вами316 317 и не только не спорить, но ни в чем не расходиться, как не должны и не могут расходиться люди серьезные, старые, готовящиеся к смерти, да еще любящие друг друга.
Л. Т.
Впервые опубликовано с датой «Май 1891 г.» в книге: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Толстовского музея, СПб. 1911, стр. 367—368. Приписка к недатированному письму T. Л. Толстой к А. А. Толстой. Датируется по содержанию. А. А. Толстая проехала в Орловскую губ. в конце мая или начале июня 1891 г. В Дневнике С. А. Толстой указывается, что Толстой за это время был в Туле 31 мая и 7 июня (см. ДСАТ, II, стр. 45 и 48).
1 Последние два слова написаны по выскобленному ножом месту.
* 320. Д. А. Юдину.
1891 г. Июня 12. Я. П.
Дмитрию Алексеевичу Юдину.
Прошу поверить Илье Болхину1 шесть пудов муки до 1-го августа сего года. В случае неуплаты им в срок, обязуюсь заплатить за него стоимость муки.
12 июня 1891 года.
Лев Толстой.
См. письмо № 286.
1 Яснополянский крестьянин.
321. В. Г. Черткову от 14? июня 1891 г.
* 322. А. Н. Дунаеву.
1891 г. Июня 21? Я. П.
Спасибо за ваше длинное хорошее письмо, дорогой Александр Никифорович.
Я сам на-днях с Алехиным1 и Хохловым ходил к Буткевичам2 и заходил к Булыгин[у]3 и вынес из этого посещения такое же впечатление, как и вы, — очень хорошее. Везде одна и та же открытая или скрытая, глухая борьба с упирающимися317 318 женщинами. Что может быть глупее и вреднее для женщин модных толков о равенстве полов, даже о превосходстве женщин над мущинами. — Для человека с христианским миросозерцанием не может быть, само собой разумеется, вопроса о том, чтобы предоставить как[ие]-нибудь права исключительно мущине, о том, чтобы не уважать и не любить женщину так же, как и всякого человека; но утверждать, что женщина имеет те же духовные силы, как и мущина, — особенно то, что женщина может быть так же руководима разумом — может так же верить ему, как и мущина, это значит требовать от женщины того, чего она не может дать (я не говорю об исключениях, а о средней женщине и среднем мущине), и вызывать к ней раздражение, основанное на предположении, что она не хочет делать того, чего она не может делать, не имея для этого категорич[еского] императива в разуме. — Я много пострадал и погрешил от этого заблуждения и потому знаю, как оно опасно.
Семенов мне пишет письмо о своей повести. Кажется, я дал ее вам для предложения в Русск[ое] Обоз[рение]. Если да, то сделайте и ответьте, и если безуспешно, то передайте ее, статью, И. И. Горбунову, к[оторый] теперь у меня и на-днях будет у вас.
Как радостно, что девушка, о к[оторой] вы пишете, нашла хоть какую-нибудь пользу в моих писаниях. До свиданья.
Любящий вас Л. Толстой.
На конверте: Москва, Ильинка. Торговый банк.
Александру Никифоровичу Дунаеву.
Дата определяется первой фразой письма о посещении Толстым «на-днях» Буткевичей и Булыгина (см. прим. 2 и 3) и почтовым штемпелем.
Ответ на письмо А. Н. Дунаева ив Москвы от 18 июня 1891 г., в котором он описывал свои впечатления от посещения им Буткевичей и Булыгина и сообщал о своих разногласиях с женой в вопросах воспитания.
1 Алексей Васильевич Алехин (р. 1859), брат Аркадия и Митрофана Васильевичей, в 1890-х гг. участник нескольких земледельческих общин, впоследствии магистр химии. См. о нем т. 66.
2 У Буткевичей в Русанове (близ Крапивны) Толстой был весь день 16 июня, а рано утром 17 июня вышел пешком обратно в Ясную Поляну, куда пришел в тот же день (см. Дневник 13 июня, т, 52, стр. 39).
3 У М. В. Булыгина в Хатунке (по дороге в Крапивну) Толстой был 15 и 16 июня (см. там же).
* 323. С. Т. Семенову.
1891 г. Июня 21. Я. П.
Очень мне жаль слышать, дорогой Сергей Терентьич, что вы недовольны своей жизнью. То, что деревенская жизнь, т. е. один земледельческий труд, не обеспечивает существование семьи, это везде одно и то же, и все везде приискивают какое-нибудь подспорье к этому труду. Так и вам придется сделать, только надеюсь, что это не побудит вас покинуть деревню. Вашу повесть, сколько мне помнится, я передал Дунаеву для помещения ее в Русск[ое] Обозр[ение] и нынче пишу ему об этом.1 Кроме того, И. И. Горбунов, к[оторый] теперь у меня, узнает у Дунаева и в случае неуспеха свезет ее в Петерб[ург] в Сев[ерный] В[естник]. По правде сказать, я мало надеюсь на ее помещение, по нелепой строгости цензуры.
Будем надеяться, что следующая ваша работа будет счастливее. Я не люблю поощрять к литературн[ому] труду, в особенности когда это заработок; но ваши писания всегда мне нравятся своей содержательностью и правдивостью, и потому в отношении вас я делаю исключение.
Пишите о себе хотя изредка. Я работаю над довольно больши[м] сочинением, к[оторое] должно составить продолжение «В чем моя вера», и весь поглощен этим трудом. Жить остается немного, а сказать хочется, или кажется так, что много.
Пока прощайте. Помогай вам бог не переставая итти по пути, избранному вами.
Любящий вас Л. Толстой.
На конверте: Московск. губ. Волоколамск, уезда. Деревня Андреевск[ая].
Сергею Терентьевичу Семенову.
Датируется на основании почтовых штемпелей.
Ответ на письмо Семенова без даты, с почтовым штемпелем «Середа, Московской губ., 17 июня 1891», в котором Семенов справлялся о судьбе своего рассказа «Братья Бутузовы» (Толстой называет его «повестью») и писал о своем тяжелом материальном положении.
1 См. письмо № 322.
* 324. Д. А. Хилкову.
1891 г. Июня 21? Я. П.
Сейчас получил письмо ваше с объявлением,1 дорогой Дмитрий Александрович, и очень рад был ему; рад, п[отому] ч[то] знал про вас, но не от вас. Письмо ваше Буткевичу2 я в одно и то же время получил от Джунк[овского]3 и, от Бутк[евича] Анатолия4 и прочел его. Нет, я не нахожу, чтобы не нужно было его писать и посылать. Вы одни знаете, насколько это нужно б[ыло] вам, а нам всем, к[оторые] его читали, б[ыло] приятно и полезно — мне, по крайней мере. — Мне приятно б[ыло] заглянуть в вашу внутреннюю работу, к[оторую] я увидал из этого письма. — Имел я о вас еще известие от Алехина — Алексея, к[оторый] говорил мне, что по письму вашему к Бирюкову видно, что чем-то недовольны. Мне очень хотелось знать, чем именно и в чем вы видите путаницу. Напишите, если можно это коротко и ясно выразить. Вероятно, к тому времени, как письмо это дойдет до вас, Ал[ексей] Алехин будет уже у вас и всё вам расскажет, но на всякий случай напишу вам о нем. С неделю тому назад он с Хохловым (он жил в Шевелеве, а теперь в технич[еском] училище) зашел ко мне по дороге в ваши края. Я с ними вместе пошел [к] Булыгину, а потом к Буткевичам за 40 верст от меня, куда я собирался, и был очень рад, что побывал у них. По внешним формам в жизни близких нам людей — и тех, про к[оторых] слышу, и к[оторых] вижу, происходит точно путаница, но по тому, что я вижу — насколько могу видеть — в душах этих людей происходит равномерное движение, то же самое, к[оторое] происходит во мне, в одном и том же направлении — от тьмы к свету, от суеты к спокойствию, от путаницы к ясности, от нерешительности к твердости, и, главное, от возможности враждебности и равнодушия к людям, к любви к ним. — Я испытываю чувство, как если бы толпа людей рассыпалась по густому лесу с намерением всем, не видя друг друга, итти по одному направлению, и я, усомнившись в том, так ли я шел, увидел бы на поляне или пройдя поперек, что все мы верно идем по одному и тому же направлению. — И это не то, что поддерживает энергию, а веселит.
Как верны рассказы Любича о положении политич[еских] ссыльных.5 Я всегда предполагал, что это так. Вы пишете об одном беспоповце,6 отказавшемся от воинск[ой] пов[инности].320
321 Чертков мне сообщил недавно выписку из дневника Муравьева Карского7 о 6 крестьянах, в 20-х годах сосланных на Кавказ и битых плетьми за отказ исполнять требования воен[ной] службы. Они так и не подчинились. Я думаю, что мучеников таких б[ыло] много неизвестных нам. — Как бы хорошо б[ыло], если бы Любич написал то, что он испытал, главное, отношение к нему властей. Ах, кабы мне помог бог кончить то, что я пишу, так, как мне представляется возможным!8 — Книгу о вегетарьянстве теперь не могу прислать — она разорвана по разным рукам.9 Пишите мне, хоть изредка. Мне так радостно общение с вами.
Л. Толстой.
Датируется на основании слов письма о приходе Алехина и Хохлова «с неделю тому назад» (см. письмо № 322).
1 Это письмо Хилкова неизвестно. «Объявление» — почтовая повестка.
2 Письмо Хилкова харьковскому протоиерею Т. Буткевичу в ответ на его «слово» «О лжеучении графа Л. Н. Толстого» (см. прим. 1 к письму № 282), прочитанное Хилковым в журнале «Вера и разум» 1891, № 5.
3 Копия ответа Хилкова Т. Буткевичу вложена в письмо Джунковского к Толстому с почтовым штемпелем «Тула, 30 мая 1891».
4 В письме без даты с почтовым штемпелем «Крапивна, 1 июня 1891» Анат. С. Буткевич сообщал, что «с следующей почтой» вышлет копию с письма Хилкова и «брошюрку харьковского соборного попа Т. Буткевича», присланную ему Файнерманом.
5 Ефим Николаевич Любич, отбывший в то время срок своей ссылки за отказ от воинской службы по религиозным убеждениям, приехал к Хилкову.
6 Беспоповцы — старообрядцы, не признающие института церковнослужителей.
7 Николай Николаевич Муравьев (1794—1866), генерал-адъютант, с 1854 г. наместник Кавказа и главнокомандующий кавказских войск, прозванный Карским за взятие Карса; автор обширных дневников «Турция и Египет в 1832 и 33 гг.», М. 1869 (сокращенное издание). Выписку из его дневника, датированную «2 октября 1818 г. Тифлис», Чертков прислал Толстому в письме от 18 мая 1891 г. как материал для книги «Царство божие внутри вас», в первую главу которой она и была помещена полностью (см. т. 28).
8 «Царство божие внутри вас».
9 X. Уильямс, «The Ethics of Diet». Книга эта была разделена между переводчиками.
325. В. Г. Черткову от 23 июня 1891 г.
326. Л. П. Никифорову.
1891 г. Июня 24. Я. П.
Получил ваши письма.1 Отвечаю на письмо Л[ьва] П[авловича]. Кое-что пришлет вам нынче Маша, а для перевода у меня есть англ[ийская] книга, довольно большая,2 кот[орую] издатель закажет. Я списался с ним.3 И когда получу ответ, напишу. Еще есть статья литературная,4 но в эту минуту не у меня. На-днях получу и пришлю.
Л. Т.
На обороте: Тверь.
Льву Павловичу Никифорову.
Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале» 1914, 1, стр. 85. Датируется на основании почтовых штемпелей.
Ответ на письмо Никифорова без даты из тверской общины Дугино. Никифоров работал в то время над биографией Толстого и просил прислать ему книгу А. А. Фета «Мои воспоминания, 1848—1889», М. 1890, а также Л. Н. Толстого «Письмо к издателям» от 28 июля 1873 г. («О самарском голоде») — «Московские ведомости» 1873, № 207 от 17 августа. В том же письме Никифоров просил прислать каких-либо книг для перевода.
1 Толстой имеет в виду письма членов тверской земледельческой общины Дугино. Они неизвестны.
2 X. Уильямс, «The Ethics of Diet».
3 См. письмо Толстого к В. Г. Черткову от 23 июня, т. 87, № 295.
4 Вероятно, книга мелких рассказов М. Braddon, о которой Толстой вновь писал Никифорову 9 августа 1891 г. См. т. 66.
327. H. Н. Ге (отцу) и H. Н. Ге (сыну).
1891 г. Июня 22...29. Я. П.
Дорогие друзья, Николаи Николаевичи.
Спасибо вам, старший, что написали Маше,1 нам т[о] е[сть]. Я собирался отвечать и, главное, написать Количке, растрогать его, вызвать его, узнать, как он живет и чувствует. Мне всегда нужно, хочется чувствовать его. Но теперь пишу только несколько слов о деле.
Письмо это вам передаст Антон Констант. Вельегорский,2 Киевский студент, чрезвычайно похожий по внешним условиям322 323 своей жизни на Количку. Он вам расскажет. Человек он близкий нам но духу, совершенно одинокий. Помогите ему любовным советом. Радуюсь за него, зная, как вы поможете ему, и за вас, п[отому] ч[то] он представляется мне серьезным человеком, с к[оторым] общение радостно.
Вы еще всё заняты копиями3 и, верно, до осени не приступите к новой картине. Надо, надо до смерти делать всё, что можешь. Я работаю медленно, но не безуспешно. Портреты ваши отличны, спасибо. С вашей легкой руки началось.4 На-днях Гиндбург приезжает делать бюст, а потом Парижский скульптор, к[оторого] Суворин предложил — забыл фамилию.5 Много я вижу последнее время людей нам близких и все работают всё то же и двигаются, и двигаются. Количка, напишите, друг, два словечка: хорошо ли вам, дурно ли, совсем хорошо или не совсем. Почему-то у меня какое-то беспокойство о вас. Потому, верно, что очень люблю вас. Мой привет Анне Петровне, Рубану и Зое.
Любящий вас Л. Толстой.
Впервые полностью опубликовано с датой: «Первая половина августа 1891» в ТГ, стр. 143—144. Датируется по содержанию. Написано после письма к Хилкову от 21 июня, но до приезда И. Е. Репина в Ясную Поляну 29 июня.
1 См. письмо Н. Н. Ге к М. Л. Толстой от 12 июня 1891 г. (ТГ, стр. 139—141). В письме этом сообщалось о высылке «портретов», т. е. фотографий художника Ге в кругу семьи Н. Н. Ге (сына).
2 Антон Константинович Вельгорский (не Вельегорский), в то время студент последнего курса Киевского университета.
3 В письме от 12 июня Ге сообщал, что делает две копии с портрета Толстого, написанного в 1884 г. (см. т. 63, стр. 161), и копию с картины «Что есть истина?».
4 Толстой имеет в виду работу Ге над бюстом Толстого.
5 Леопольд Адольфович Бернштам (р. 1859), петербургский скульптор, с 1885 г. живший в Париже. Приезд его в Ясную Поляну не состоялся.
* 328. Д. А. Хилкову.
1891 г. Июня 22...29. Я. П.
Дмитрий Александрович!
Письмо это вам передаст Антон Константинович Вельегорский, киевский студент, желающий устроиться у себя на земле. Он вам всё расскажет о себе, и, вероятно, вы вынесете от общения323 324 с ним то же хорошее впечатление, к[оторое] вынес и я. Он совсем одинок, никого не знает из людей одинаковых с ним убеждений, имеет самые неопределенные планы о том, как устроиться, и потому вы ему можете и, верно, захотите помочь. Ему хорошо б поговорить с людьми, живущими так, как он хочет, и посмотреть на их жизнь. Если вы найдете это удобным, то направьте его к Дудченко и Алехину Митрофану. — По душе буду писать другой раз, теперь только о деле.
Л. Толстой.
Написано в один день с письмом к Ге (см. № 327).
СПИСОК ПИСЕМ Л. Н. ТОЛСТОГО, ТЕКСТ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН
1890
1. М. И. Семевскому. 1889 г. Декабря конец — 1890 г. Января начало. Помета об ответе на письме Семевского к Толстому от 24 декабря 1889 г.
2. А. А. Евдокимову. Января 15. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 11).
3. Неизвестному. Января 15. В Дневнике Толстого от 15 января записано: «Написал.... 2 [письма] по общ[еству] трезвости...» (т. 51, стр. 11). Одно из этих писем — А. П. Куприянову (см. письмо № 2), другое неизвестно.
4. А. П. Новицкому. Января середина. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме Новицкого к Толстому от 10 января.
5. Рафаилу Лёвенфельду (В. Löwenfeld). Февраля 7. Приписка к письму М. Л. Толстой. Дата Толстого. (Ср. прим. к письму № 13 и Список писем, написанных по поручению Л. Н. Толстого, письмо № 11.)
6. E. Н. Воробьеву. Февраля 9. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 17).
7. П. И. Бирюкову. Февраля 10. Отмечено там же.
8. А. А. Евдокимову. Января 27 — февраля начало. Помета «об ответе на письме Евдокимова с почтовым штемпелем: «Киев, 25 января 1890 г.».
9. Н. А. Немолодышеву. Январь — февраля начало. Упоминается в письме Немолодышева к Толстому без даты, с почтовым штемпелем: «СПб., 14 февраля 1890».
10. Д. И. Завалишину. Февраля 23. Помета Т. Л. Толстой об ответе на письме Завалишина к Толстому от 15 февраля.
11. В. И. Алексееву. Февраля 24. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 22).
12. Д. А. Литошенко. Февраля 24. Отмечено там же.
13. Дубровиной. Февраля конец? Упоминается в ответном письме Дубровиной без даты. Письмо Толстого ответ на письмо Дубровиной с почтовым штемпелем: «Петербург, 19 февраля».
14. М. Н. Толстой. Марта 2. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 24).325
326 15. Н. Г. Золотаревскому. Марта середина. Упоминается в письме Золотаревского к Толстому от 22 марта.
16. Неизвестному. Марта середина? Упоминается в письме А. И. Ярышкина к Толстому от 28 апреля 1890 г. (Толстой писал кому-то из своих знакомых в Петербург с просьбой содействовать утверждению устава «Одесского общества для борьбы с пьянством»).
17. П. А. Гайдебурову. Апреля 9. Отмечено в Списке В. Г. Черткова.
18. Кадетам: Арапову, Винтерфельду, Ризенкампфу, Шульцу. Апрель, после 5. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме адресатов от 5 апреля.
19. А. Н. Каневскому. Апрель? Письмо Толстого воспроизводится
А. Н. Каневским по памяти в письме его в редакцию настоящего издания от 2 ноября 1929 г. (местонахождение подлинника письма Толстого неизвестно):
«Дорогой А[натолий] Н[иколаевич]!
Письмо ваше получил и извиняюсь, что не сразу ответил вам: был очень занят. Вы желаете приехать ко мне, чтобы научиться от меня истинам христианского учения. Этого я не советую вам делать, т. е. приезжать ко мне. Моя личность слаба, и я на словах никогда не мог бы изложить своих мыслей, как я их выразил в своих писаниях: В чем моя вера, Евангелие и др. Читали ли вы их? Читали ли вы также соч[инения] Будды, Эпиктета, М. Аврелия, Спинозы, Паскаля и др. братьев, оставивших нам плоды своего духовного опыта?
Вам, людям молодым, и в особенности женщинам, кажется, что они гораздо больше вынесут пользы от непосредственного отношения с людьми, будто бы стоящими выше их, но это неправда; все люди равны, и они не озера, а реки. Как в реках вода меняется, так и в людях хорошее постоянно меняется с дурным.
А на почитании великих людей основывается почитание святых.
Кроме того, незрелые плоды не станут зрелыми, если их чем-нибудь сверху помажешь или посыплешь.
А главное, чего надо добиваться в жизни, это желать быть добрым, желать быть добрым и желать быть добрым».
20. С. П. Софронову. Апрель после 3. Помета об ответе на письме Софронова к Толстому от 3 апреля.
21. С. Чужбойской. Мая 20—22. Упоминается в письме Чужбойской к Толстому от 23 мая.
22. К. А. Вяземскому. Июля 23. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
23. И. Д. Ругину. Июля 28. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 69).
24. А. С. Зонову. Августа 9. Помета об ответе на письме Зонова к Толстому от 1 августа.
25. Алонзо Холистеру (A. Hollister). Августа 9. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
26. М. А. Новоселову. Августа 9—10. Отмечено в Дневнике Толстого (10 августа) (т. 51, стр. 74) и в Списке М. Л. Толстой (9 августа).
27. Ф. Р. Остен-Сакену. Августа начало. Помета Т. Л. Толстой об ответе на письме Остен-Сакена от 30 июля.326
327 28. Джорджу Кеннану (G. Kennan). Августа 20. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
29. П. В. Попову. Августа 1—20. Упоминается в ответном письме Попова от 23 августа.
30. Алексееву. Августа 22—23. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
31. П. А. Гайдебурову. Августа 24—25. Упоминается в письме А. И. Орлова к Толстому от 26 сентября.
32. Э. М. Диллону (E. Dillon). Сентября середина. Помета об ответе на письме Диллона к Толстому от 9/21 сентября.
33. Н. Августовскому. Сентября 24. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
34. Арк. В. Алехину. Сентября около 25. Упоминается в ответном письме Алехина от 30 сентября.
35. А. И. Орлову. Сентября 27 — октября начало. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме Орлова от 26 сентября.
36. А. М. Кузминскому. Октября 12—14. Упоминается в письме Кузминского к Толстому от 15 октября.
37. М. А. Новоселову. Октября 14. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
38. А. В. Дольнеру. Октября около 17. Упоминается в письме Толстого к Л. Ф. Анненковой от 17 октября (№ 152) и в письме к Дольнеру от 17 декабря (№ 192).
39. Л. Л. Толстому. Ноября 1. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
40. Л. Л. Толстому. Ноября 5. Отмечено в Дневнике Толстого 6 ноября (т. 51, стр. 101).
41. М. В. Алехину. Ноября 6. Отмечено в списке М. Л. Толстой.
42. Н. С. Лескову. Ноября 14. Отмечено там же.
43. А. И. Орлову. Ноября 14. Упоминается в ответном письме Орлова от 9 декабря. Отмечено там же.
44. А. А. Пастухову. Ноября 14. Отмечено там же.
45. Е. А. Карзинкиной. Ноября 17. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 106).
46. Н. С. Лескову. Ноября 17. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
47. Э. М. Диллону (E. Dillon). Ноября 21. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 108).
48. Е. И. Солодовниковой. Ноября 21. Отмечено там же.
49. К. А. Гринштайну. Ноября 23. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
50. Е. Е. Зуль-Дубле. Ноября конец. Помета об ответе на письме Дубле к Толстому с почтовым штемпелем: «Тула, 20 ноября» и упоминание в письме Зуль-Дубле к Толстому от 31 января 1891 г.
51. Е. Г. Рагозину. Декабря 3. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 111).
52. П. А. Гайдебурову. Декабря 6. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
53. Арк. В. Алехину. Декабря 12. Отмечено там же.
54. А. В. Жиркевичу. Декабря 28—31. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.327
328 55. H. C. Лескову. Декабря 31. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 51, стр. 116).
56. И. Д. Ругину. Декабря 28—31. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
1891
57. Д. А. Хилкову. Января 1. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
58. Н. С. Лескову. Января 7. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
59. В. А. Панькову. Января 7. Отмечено в Дневнике Толстого 8 января (т. 52, стр. 4).
60. П. В. Попову. Января 7. Отмечено там же.
61. Н. Хрипковой. Января 8. Отмечено там же.
62. А. С. Зонову. 1890 г. Декабря конец — 1891 г. Января начало. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме Зонова к Толстому от 29 декабря 1890 г.
63. И. Кейделю (I. Keidel). Января 1—15. Упоминается в письме Толстого к В. Г. Черткову от 15 января 1891 г. (т. 87, № 278).
64. Н. С. Лескову. Января 15. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 52, стр. 4).
65. Е. Ф. Буткевич. Января 18. Отмечено в Списке М. Л. Толстой.
66. Н. С. Лескову. Января 18. Отмечено там же; упоминается в ответном письме Лескова от 20 января.
67. Л. Л. Толстому. Января 21. Отмечено там же.
68. Неизвестному («немцу»). Января 26. Отмечено там же.
69. П. В. Засодимскому. Января 28. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
70. А. А. Ленскому. Января 28. Помета об ответе на письме Ленского к Толстому от 18 января; отмечено там же.
71. А. К. Рогаской. Января 28. Помета об ответе на письме Рогаской к Толстому с почтовым штемпелем: «Елисаветград, 11 января»; отмечено там же.
72. Г. С. Рубан-Щуровскому. Января 28. Отмечено там же.
73. И. Кейделю (I. Keidel). Февраля 2. Отмечено там же.
74. Н. О. Добровольскому. Февраля 3—9? Отмечено там же.
75. М. Ф. Кудрявцевой. Февраля 3—9. Упоминается в письме Кудрявцевой к Толстому с почтовым штемпелем: «Кавказская, 19 февраля»; отмечено в Списке М. Л. Толстой.
76. П. М. Свободину. Февраля начало. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме Свободина к Толстому с почтовым штемпелем: «Петербург, 30 января».
77. Д. А. Хилкову. Февраля 10? Отмечено в Дневнике Толстого 11 февраля (т. 52, стр. 7) и в Списке И. И. Горбунова-Посадова 10 февраля.
78. Н. О. Добровольскому. Февраля первая половина. Упоминается в письме Добровольского к Толстому от 1896 г.
79. Ф. И. Фейгину. Февраля середина. Помета М. Л. Толстой об ответе на письме Фейгина к Толстому от 12 февраля.328
329 80. Шёлерману (Schölerman). Февраля середина. Упоминается в ответном письме Щёлермана от 19 февраля.
81. Г. Кузьмину. Февраля 20. Отмечено в Дневнике Толстого 24 февраля (т. 52, стр. 13) и в Списке М. Л. Толстой 20 февраля.
82. Н. С. Лескову. Февраля 20. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
83. Н. А. Рубакину. Февраля 20. Упоминается в ответном письме Рубакина с почтовым штемпелем: «Москва, 12 марта»; отмечено там же.
84. Уиверу (Weaver). Февраля 22. Отмечено в Дневнике Толстого 24 февраля (т. 52, стр. 13); упоминается в письме Толстого к H. Н. Ге (сыну) от 22 февраля, № 242.
85. Г. Кузьмину. Февраля 28. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
86. Неизвестному. Марта 5. Отмечено в Дневнике Толстого как «прошение Курзику» (т. 52, стр. 16).
87. Н. Я. Гроту. Марта 25. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 52, стр. 24).
88. Д. Н. Цертелеву. Марта 25. Отмечено там же.
89. А. И. Орлову. Марта 25—26. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
90. Н. Кирьякову. Марта 28—30? Упоминается в ответном письме Кирьякова от 30 марта.
91. П. А. Гайдебурову. Марта 31. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 52, стр. 25).
92. Попову. Марта 31. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
93. О. Н. Спенглер. Апреля 8. Упоминается в ответном письме Спенглер от 5 мая; отмечено там же.
94. Арк. В. Алехину. Апреля 11—30? Отмечено там же.
95. К. К. Бооль. Апреля вторая половина — мая 3: Упоминается в ответном письме Бооль от 5 мая.
96. Д. А. Хилкову. Мая 11. Отмечено в Списке И. И. Горбунова-Посадова.
97. И. П. Бидину. Мая 21. Отмечено в Дневнике Толстого (т. 52, стр. 32).
98. М. А. Зиновьеву. Мая 21. Отмечено там же.
99. Э. М. Диллону (Е. Dillon). Мая 22. Отмечено там же.
100. Анат. С. Буткевичу. Мая 14—30. Упоминается в ответном письме Буткевича от 1 июня.
101. Фредерику Эвансу (F. Ewans). Мая 27 — июнь. Сообщение в письме в редакцию настоящего издания из Нью-Йорка от 8 октября 1929 г. Х.-В. Л. Кантера.
СПИСОК ПИСЕМ, НАПИСАННЫХ ПО ПОРУЧЕНИЮ Л. Н. ТОЛСТОГО
1890
1. А. К. Захарченко — на письмо от 16 декабря 1889 г. ответила М. Л. Толстая.
2. И. Саарбекову — на письмо от 21 декабря 1889 г. ответила М. Л. Толстая.
3. А. Соболевскому — на письмо от 24 декабря 1889 г. ответила T. Л. Толстая 11 января 1890 г.
4. Вильяму Блиссу (W. Bliss) — на письмо от 1 января ответила T. Л. Толстая.
5. Вильяму Стэду (W. Stead) — на письмо от 14 января нов. ст. ответила T. Л. Толстая.
6. Джемсу Хёнтингтону (J. Hungtington) — на письмо от 14 января нов. ст. ответила T. Л. Толстая.
7. К. А. Вяземскому — на письмо от 27 января (почтовый штемпель) ответила Т. Л. Толстая.
На конверте надпись Толстого:
О[тец] благодарит вас за выраженные вами чувства. Но он не совсем здоров и очень занят и потому советует вам сейч[ас] не прие[зжать].
Слова: советует вам сейчас не приезжать переделаны из: приез[д] ваш б[ыл] бы ему в тя[гость].
8. А. И. Орлову — на письмо от 28 января ответила М. Л. Толстая.
9. Н. И. Попову — на письмо от 17 января ответила М. Л. Толстая.
10. Н. фон-дер-Ховен — на письмо от 18 января ответила М. Л. Толстая.
11. Рафаилу Лёвенфельду (K. Löwenfeld) — на письмо от 7 февраля нов. ст. ответила М. Л. Толстая 7 февраля.
12. И. Захарьину-Якунину — на письмо от 18 января ответила М. Л. Толстая.330
331 13. Е. Шобельской — на письмо от 31 января ответила М. Л. Толстая.
14. М. Ф. Белышеву — на письмо неизвестное ответила М. Л. Толстая 14 февраля.
15. Рафаилу Лёвенфельду (R. Löwenfeld) — на письмо без даты ответила Т. Л. Толстая 16 февраля.
16. Франциске Виллард (F. Willard) — на письмо от 3 февраля нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
17. С. О. Барсукову — на письмо от 19 февраля ответила М. Л. Толстая.
18. Яромиру Грубому (J. Hruby) — на письмо от 25 февраля ответила М. Л. Толстая.
19. А. И. Ярышкину — на письмо от 3 марта ответила М. Л. Толстая.
20. Э. К. Рэйсс — на письмо от 24 февраля ответила М. Л. Толстая.
21. E. Н. Горевой — на письмо от 7 марта ответила М. Л. Толстая.
22. Натану Доулу (N. Dole) — на письмо от 5 марта нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
23. В. П. Прохорову — на письмо от 6 марта ответила М. Л. Толстая.
24. Ф. С. Пыжевичу — на письмо от 15 марта ответила М. Л. Толстая.
25. Н. А. Полушину — на письмо от 5 марта ответила М. Л. Толстая.
26. Е. Д. Соколовой — на письмо от 16 марта ответила М. Л. Толстая под диктовку Толстого:
Отец пр[осит] пер[едать] в[ам], что весьма сожалеет, что не может исполнить вашего желан[ия], т[ак] к[ак] он давно уже не имеет никаких денег и потому не может распоряжаться ими.
27. Г. Лыткину — на письмо от 22 марта ответила М. Л. Толстая.
28. Служащим в конторе торгового дома «Бр. П. и С. Третьяковы и В. Коншин» — на письмо от 20 марта ответила М. Л. Толстая.
29. Юлии Смит (J. Smyth) — на письмо от 15 марта нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
30. А. П. Степанову — на письмо от 25 марта с вопросом: «каким надо изобразить Сахатова» в пьесе Толстого «Плоды просвещения»? На письме Степанова карандашом рукой Толстого написано:
Сахатов, по мысли отца, бывший товарищ министра, молодой, образова[нный], либеральный, богатый человек.
Ответила М. Л. Толстая.
31. П. А. Альтгаузен — на письмо от 2 апреля ответила М. Л. Толстая.
32. А. М. Волчанецкой — на письмо от 2 апреля с просьбой содействия Толстого в распространении билетов для лотереи, задуманной ею331 332 с целью собрать денег на постройку помещения для школы. На конверте надпись Толстого:
Тане: Не возьмешь ли на себя продажу билетов?
Ответила T. Л. Толстая.
33. И. Д. Гальперину-Каминскому (Halpérine-Kaminsky) — на письмо от 22 апреля нов. ст. с сообщением о задуманном им этюде о произведениях и мировоззрении Толстого и просьбой указать, выражают ли собственные взгляды Толстого его произведения: «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича» и «Власть тьмы». В конце письма Гальперин-Каминский сообщал, что желает исправить свой перевод «Власти тьмы» по тексту, сообщенному Толстым Приселковым, и просил доставить ему рукописный или печатный текст «Плодов просвещения».
На письме карандашом рукой Толстого набросано:
О[тец] получил статью. Для составления статьи о взглядах надо воспользоваться сочинениями след[ующими]. Приселк[овым] особенно[го] экземпл[яра] В[ласти] т[ьмы] не сообщ[ал]. Плодов просве[щения] не могу доставить. Они будут, вероятно, напеча[аны].
Ответила М. Л. Толстая.
34. А. И. Ярышкину — на письмо от 12 апреля ответила М. Л. Толстая 18 апреля.
35. Изабелле Гапгуд (I. Hapgood) — на письмо от 21 апреля ответила М. Л. Толстая.
36. М. А. Колосову — на письмо от 8 апреля ответила М. Л. Толстая.
37. М. М. Богданову — на письмо от 2 апреля ответила М. Л. Толстая.
38. И. П. Зозулину — на письмо без даты («начало весны») ответила М. Л. Толстая.
39. Э. К. Райсс — на письмо от 11 апреля ответила М. Л. Толстая.
40. А. Т. Белому — на письмо от 16 апреля ответила М. Л. Толстая.
41. Маргарите Кросби (M. Crosby) — на письмо от 11 апреля (почтовый штемпель) ответила Т. Л. Толстая.
42. А. А. Пафомову — на письмо от 4 апреля ответила М. Л. Толстая.
43. А. П. Дмитриеву — на письмо от 30 апреля ответила М. Л. Толстая.
44. Иоганну Каулин (I. Kaulin) — на письмо от 24 апреля с просьбой прислать ему русский текст «этико-социальных» произведений Толстого для перевода на латышский язык. На конверте его письма надпись Толстого:
Рукописей нет. Достать в Посреднике.
Ответила М. Л. Толстая.332
333 45. Джозефу Ли (J. Lee) — на письмо от 30 апреля нов. ст. ответила T. Л. Толстая.
46. Вальборг Стэдберг (W. Stedberg) — на письмо от 5 мая нов. ст. ответила М. Л. Толстая.
47. Христине Шенк (Ch. Schenk) — на конверте письма от 27 апреля нов. ст., с сообщением о своем желании основать международную ассоциацию женщин, надпись Толстого:
Тане. Association [ассоциация] прекрасно, есть американск[ая].
Пометы об ответе нет.
48. М. Розенберг — на письмо от 2/14 мая с просьбой указать, где можно достать экземпляр комедии «Плоды просвещения» для перевода на немецкий язык. На конверте рукой Толстого:
В окончат[ельной] форм[е] нет; будет напечатано.
Ответила М. Л. Толстая.
49. О. А. Степановой — на письмо от 3 мая ответила М. Л. Толстая.
50. Полю Буайе (P. Boyer) — на письмо от 10/22 мая ответила T. Л. Толстая.
51. Л. А. Гауфу (L. Hauff) — на письмо от 20 мая ответила М. Л. Толстая.
52. Г. П. Иванову — на письмо от 12 мая (почтовый штемпель) с просьбой разрешить заехать в Ясную Поляну. На конверте письма надпись Толстого:
Не здоров, не в состоян[ии] видеть.
Ответила М. Л. Толстая.
53. П. Сиверцеву — на письмо без даты ответила М. Л. Толстая.
54. М. Д. Симоновской — на письмо от 10 мая (почтовый штемпель) ответила М. Л. Толстая.
55. А. А. Александрову — на письмо от 14 мая ответила М. Л. Толстая.
56. Кассирер и Данцигер (Cassirer u. Danziger) — на письмо от 27 мая нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
57. И. Г. Журавову — на письмо от 4 июня ответила М. Л. Толстая.
58. Изабелле Гапгуд (I. Hapgood) (?)
1890 г. Июня 11. Я. П.
Смысл картины, как говорит отец, следующий: Христос провел ночь среди своих мучителей. Его били, водили от одних начальников к другим и наконец к утру привели к Пилату.333
334 Пилату, важному римскому чиновнику, все это дело представляется ничтожным беспорядком, возникшим среди евреев, сущность которого не может интересовать его, но который он обязан прекратить как представитель римской власти. Ему не хочется употреблять решительных мер и воспользоваться своим правом смертной казни, но когда евреи с особенным озлоблением требуют смерти Иисуса, его заинтересовывает вопрос, отчего всё это затеялось. Он призывает Иисуса в преторию и хочет от него самого узнать, чем он так раздражил евреев. Как всякий важный чиновник, вперед угадывая причину и сам высказывая ее, он настаивает на том, что причина возмущения в том, что Иисус называет себя царем иудейским. Он два раза спрашивает его — считает ли он себя царем. Иисус видит по всему невозможность того, чтобы Пилат понял его, видит, что это человек совсем другого мира, но он человек, — и Иисус и в душе своей не позволяет себе назвать его «рака» и скрыть от него тот свет, который он принес в мир, и на вопрос его — царь ли он — высказывает в самой сжатой форме сущность своего учения (Иоанн, 18, 37): «....Я на то родился....». «Я думал, что можно узнать что-нибудь от этого оборванца о том, за что его обвиняют, но он говорит какой-то напыщенный вздор об истине и от него ничего нельзя добиться. Что он болтает об истине?» и, сказав это, вышел к иудеям (38, к иудеям). Этот момент и изображает картина.
Печатается по черновику рукой T. Л. Толстой, написанному на четвертой (свободной) странице письма А. Н. Дунаева к Толстому от 6 июня 1890 г. Впервые опубликовано почти полностью T. Л. Сухотиной-Толстой в статье «Николай Николаевич Ге» — «Голос минувшего» 1919, 5—12. Дата определяется пометой T. Л. Толстой на черновике: «Продиктовано 11 июня 1890».
Письмо это, вероятно, адресовано американке, переводчице Толстого на английский язык, Изабелле Гапгуд (I. Hapgood). Ср. Н. Д. Ильин, «Дневник толстовца», СПб. 1892, стр. 184—185.
59. Венделю Гаррисону (W. Garrison) — написано T. Л. Толстой 11 июня. Содержит просьбу Толстого содействовать успеху выставки картины Н. Н. Ге «Что есть истина?».
60. Натану Доулу (N. Dole) — написано T. Л. Толстой 11 июня. Содержание то же, что и в № 59.
61. В. Ньютону (W. Newton) — написано Т. Л. Толстой 11 июня. Содержание то же, что и в № 59.
62. Александровскому благотворительному обществу (Ростов-на-Дону) — на письмо от 10 июня ответила М. Л. или T. Л. Толстые.334
335 63. И. Бинштоку и М. Домбровскому — на письмо от 9 июня ответила М. Л. Толстая.
64. Вильяму Шюлеру (W. Shuyler) — на письмо от 10 июня ответила Т. Л. Толстая.
65. С. В. Элькан — на письмо от 9 июня ответила М. Л. Толстая.
66. А. Тумей (А. Тооmeу) — на несохранившееся письмо ответила одна из дочерей Толстого. В письме от 24 июля нов. ст. Тумей благодарила за ответ.
67. Г. Кузмину — на письмо от 21 июня ответила М. Л. Толстая.
68. Анжеле де Сеп-Франсуа (A. de St. François) — на письмо от 17 июня нов. ст. ответила М. Л. Толстая.
69. С. Кульженко — на письмо от 25 июня ответила М. Л. Толстая.
70. Холлу Кэну (H. Kaine) — на письмо от 12 июня ответила Т. Л. Толстая.
71. М. П. Кудрявцевой — на письмо от 7 июля ответила М. Л. Толстая.
72. Джозефу Ленг (J. Leng) — на письмо от 21 июля ответила M. Л. Толстая.
73. М. В. Маркович — на письмо от 11 июля ответила М. Л. Толстая.
74. А. Н. Дунаеву — на несохранившееся письмо ответила М. Л. Толстая 22 июля.
75. Ф. Мариону Крауфорду (F. М. Crawford) — на письмо от 16 июля ответила М. Л. Толстая.
76. А. И. Мотовиловой — на письмо от 26 июля ответила М. Л. Толстая 9 августа.
77. Е. П. Свешниковой — на письмо от 4 августа ответила М. Л. Толстая 9 августа.
78. Ф. И. Полежаеву — на письмо от 2 августа ответила М. Л. Толстая.
79. Л. И. Якобсону — на письмо от 5 августа ответила Т. Л. Толстая.
80. Льюису Вильсону (L. Wilson) — на письмо от 23 августа нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
81. Анжеле де Сен-Франсуа (A. de St. François) — на письмо от 25 августа нов. ст. с просьбой высказать свое мнение о посылаемой ею «последней брошюре». На конверте надпись Толстого:
Ответить, что брошюрку прочел и она мне менее нравится, чем статья прежняя, так как менее ясна. Жду книги.
Ответила М. Л. Толстая.
82. И. П. Бидину — на несохранившееся письмо ответила одна из дочерей Толстого. В письме от 8 сентября (почтовый штемпель) Бидин благодарил за ответ дочь Толстого.
83. И. Б. Тумаркину — на письмо от 11 сентября ответила М. Л. Толстая.
84. Ю. П. Азанчевской — на недатированное письмо с извещением о посылке Толстому ее статьи (о ней Т. Л. Толстая писала Гайдебурову, см. № 95) ответила Т. Л. Толстая.335
336 85. И. К. Юдину — на письмо от 20 сентября ответила М. Л. Толстая.
86. И. Хилькевичу — на письмо от 5 октября ответила М. Л. Толстая.
87. Симону Лэру (S. Lehr) — на письмо от 28 октября нов. ст. ответила T. Л. Толстая 23 октября.
88. Л. А. Гауфу (L. Hauff) — на письмо от 9/21 октября ответила М. Л. Толстая.
89. Р. Шёлер (R. Schoeler) — на письмо от 8/20 октября ответила Т. Л. Толстая.
90. Е. К. Миндеру — на письмо от 25 октября ответила М. Л. Толстая.
91. Н. В. Ловягину — на письмо от 1 ноября ответила М. Л. Толстая.
92. Смиту (Smith) — на телеграмму от 19 ноября нов. ст. ответила М. Л. Толстая.
93. П. А. Гайдебурову — написала Т. Л. Толстая, пересылая статью Ю. П. Азанчевской.
94. А. С. Зонову — на несохранившееся письмо. Об ответе по поручению Толстого, полученном 26 ноября, Зонов сообщал в письме от 29 декабря.
95. К. А. Трейвосу — на письмо от 13 ноября ответила одна из дочерей Толстого (по сообщению Трейвоса в письме от 20 декабря).
96. Бросса (H. Brosset) — на письмо от 22 ноября нов. ст. ответила Т. Л. Толстая.
97. Н. А. Гильдовской — на письмо от 1 декабря ответила М. Л. Толстая.
98. Л. Ануровой — на письмо без даты (по содержанию 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
99. Л. Д. Вологдиной — на письмо без даты (1890) ответила М. Л. Толстая.
100. М. Граве — на письмо без даты (помета М. Л. Толстой: 1890) ответила М. Л. Толстая.
101. Н. П. Короткову — на письмо без даты (помета М. Л. Толстой: 1890) ответила М. Л. Толстая.
102. В. Д. Кузнецовой — на письмо без даты (по содержанию 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
103. Н. П. Полушкину — на письмо без даты (помета М. Л. Толстой: 1890) ответила М. Л. Толстая.
104. Я. И. Ростовскому — на письмо без даты (по содержанию 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
105. М. Сахаровой — на письмо без даты (по содержанию 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
106. И. К. Сокольникову — на письмо без даты (по содержанию 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
107. П. И. Троповой — на письмо без даты (помета М. Л. Толстой: 1890 г.) ответила М. Л. Толстая.
1891
108. Иосифу Кюршнеру (J. Kürschner) — на письмо от 10 января нов. ст. 1891 г. ответила T. Л. Толстая.
109. З. В. Петуховой — на письме от 17 января 1891 г., в котором она писала, что утомилась двадцатилетней службой на телеграфе, хотела бы купить небольшой участок земли и обрабатывать его, и просила совета, надпись Толстого:
Напиши, что не советую; слишком трудно и нужно много денег. Не переменять жизни и само придет.
Пометы об ответе нет.
110. И. Г. Журавову — писала по поручению Толстого М. Л. Толстая. О получении этого письма Журавов сообщил в письме от 5 февраля.
111. Каролине Винслоу (С. Winslow) — на неизвестное письмо ответила одна из дочерей Толстого. О получении этого письма в феврале 1891 г. сообщила Винслоу в письме от 26 июля.
112. Вильгельму Лилиенталю (W. Liliental) — на письмо от 13 марта ответила T. Л. Толстая.
113. А. Фишеру — на письмо от 3/15 марта ответила М. Л. Толстая.
114. Г. Клингу (О. Kling) — на письмо от 15 апреля нов. ст. ответила М. Л. Толстая.
115. С. Писаревскому — на конверте письма от 22 мая с вопросами религиозного характера помета Толстого:
Ответить, в сочинениях ответы. Достать в Посреднике.
Пометы об ответе нет.
116. П. О. Ковалевскому — на письмо от 27 мая ответила М. Л. Толстая.
117. М. М. Ледерле — на конверте письма от 1 июня, с просьбой дать список всех книг, наиболее повлиявших на Толстого, и список книг, с которыми он считает необходимым познакомить молодежь и читающую публику, надпись Толстого:
Ответить поучтивее, что список такой есть у Маракуева. Маракуеву написать, что прошу сообщить. А то у Черткова.
Ответила Т. Л. Толстая.
118. М. И. Семевскому — на письмо от 2 июня, в котором он спрашивал Толстого, нуждается ли он еще в материалах о народных «слухах, ходивших в России в 1825—1826 гг.». Несколько месяцев тому назад он слышал от художника Ге, что Толстому требуются эти материалы для одного из его трудов и, найдя теперь в своем архиве копию с подлинного дела 1826 г., предлагал ее выслать, если надобность не миновала. На конверте письма Семевского надпись Толстого:337
338 Благодарить за уведомление. Если не трудно выслать, то обяжет. Сообщить, когда вернуть.
Ответила T. Л. Толстая.
119. В. А. Алексееву — на письмо от 6 июня с сообщением о посылке Толстому своего перевода «Жизнеописаний» Плутарха и с просьбой адреса А. В. Олсуфьева ответила М. Л. Толстая. На конверте помета Толстого:
Напиши, что благодарю за книгу. Нахожу перевод прекрасным. И адрес Олсуфьева.
120. К. А. Вяземскому — на письмо от 20 июня (почтовый штемпель) ответила М. Л. Толстая.
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В настоящий указатель введены имена личные и географические, заглавия книг, названия статей, произведений слова, живописи, музыки, встречающиеся как в тексте Толстого, так и в комментариях. Кроме того, в указатель введены названия журналов и газет, если они употреблены самостоятельно, а не как библиографические данные. Указанные при географических именах уезды в указатель не вошли. Знак || означает, что цифры страниц, стоящие после него, указывает на страницы редакторского текста.
Августовский Николай — || 327.
Авраам — 193.
Азанчевская Юлия Павловна — || 335.
Александр III — 304, || XIV, 277, 302.
Александров Анатолий Александрович — || 333.
Алексеев — || 327.
Алексеев Василий Алексеевич — || 152, 153, 338.
Алексеев Василий Иванович — 274, || 18, 19, 100, 102, 110, 156, 157, 158, 174, 175, 176, 202, 203, 302, 303, 325.
Алексеев Николай Васильевич — 101, 111, 303, || 101.
Алексеев Павел Петрович — 100.
Алексеев Петр Семенович — 3, 75, 227, 228, 275, || 4, 68, 76, 228.
— «О пьянстве» — 68, 75, 123, 144, 150, 204, 215, 227, 228, 253, 275, || 4, 68, 76, 129, 151, 216, 275.
— «Первая помощь и уход за больными» — || 68.
— «По Америке. Поездка в Канаду и Соединенные Штаты» — || 4.
— «Успех в борьбе с пьянством» — 114.
Алексеева Вера Владимировна — 175, 202, 203, 302, 303, || 176.
Алехин Алексей Васильевич — 317, 320, || 269, 318, 321.
Алехин Аркадий Васильевич — 49, 90, 91, 97, 116, 201, 203, 293, 307, 314, || 49, 91, 115, 196, 197, 269, 293, 294, 296, 300, 318, 327, 329.
Алехин Митрофан Васильевич — 96, 307, 314, 324, || 91, 269, 291, 293, 307, 318, 327.
Алехины — 116, 119, 144, 268.
Алеша Попович — || XX.
Али — 234, || 235.
Алмазов Алексей Иванович — 81, 123, 205, 248, || 81.
Альбов Михаил Нилович — || 288.
Альтгаузен Павел Адольфович — || 331.
«Аlfа», американский журнал — 183, || 183.
Америка — 3, 60, 71, 98, 107, 135, 139, 144, 146, 156, 169, 172, 257.
«Американец в гостях у Л. Н. Толстого», статья («Неделя») — || 141.
Англия — 210.
Андерсен Чарльз (Andersen) — || 149, 150.
Андреевская, Московской губ. — 282, 288, 319.
Анненков Константин Никанорович — 112, 267, || 112.
Анненкова Леонила Фоминична — 205, 249, 258, || 111, 112, 113, 171, 259, 266.339
340 Антоний, архимандрит (Алексей Павлович Храповицкий) — 187, || 188.
— «Беседы о нравственном превосходстве православного понимания евангелия сравнительно с учением Л. Толстого» — || 188.
— «Беседы о нравственном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого» — || 188.
Антоний Фивский — 157, || 158.
Анурова Л. — || 336.
Анфантен Бартелеми-Проспер (Enfantin) — 296, || 296.
— «La vie éternelle passée — présente—future» («Вечная жизнь прошлая — настоящая — будущая») — 296, || 296.
Анюта — 155.
Аполлов Александр Иванович — || 29, 31.
Аполлов Б. А., «Письма Л. Н. Толстого к А. И. Аполлову» — || 31.
Апостолов H. H., «Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков» — || 198.
Арапов — || 326.
«The Arena», американский журнал — || 37, 114.
Арнольд Готфрид (Arnold) — 160, || 161.
— «Unpartheysche Kirchen- und Ketzer-Historie» («Беспристрастная история церквей и ересей») — || 161.
Арнольд Мэтью — 89, 203, 302, || 90, 203, 303.
— «Essays in criticism» («Критические опыты») — 203, || 203.
— «The function of criticism at the present time» («Задачи современной критики») — 203, || 203.
Архив В. Г. Черткова (AЧ) — || 4, 16, 26, 27, 31, 39, 66, 67, 70, 74, 79, 82, 85, 86, 87, 90, 97, 117, 119, 122, 126, 127, 137, 141, 143, 145, 155, 159, 164, 168, 178, 192, 194, 195, 202, 204, 207, 208, 214, 224, 233, 235, 240, 246, 249, 253, 254, 269, 270, 272, 274, 300, 305, 307, 314, 318.
Архив Л. Н. Толстого (АТ) — || 174, 260.
«Atlantik Monthly», американский журнал — || 131.
Афанасьев A. H., «Народные русские сказки» — || 227.
Афанасьев Федор Федорович — 248, || 249.
Байрачная, Харьковской губ. — || 97, 293.
Баллу Адин (Ballou) — 28, 29, 46, 64; 71, 135, 144, 166, || 34, 37, 38, 73, 113, 114.
«Автобиография» — || 114.
«Non-resistance catechism» («Катехизис непротивления») — 135, 144, 166, || 114.
«Christian non-resistance» («Христианское непротивление») — 35, 36, 37, 106, 144, || 38, 106, 145.
Барсуков Степан Осипович — || 331.
Баршева Ольга Алексеевна — 145, 155, 178, || 155, 179, 203, 204, 234, 303, 305.
Барыкова Анна Павловна — 284, || 106, 278, 284.
Батенков Гавриил Степанович — 157, || 158.
«Повесть собственной жизни» — || 158.
Бегичевка, Рязанской губ. — || X, XI, XII.
Бекетов A. H., «Нравственность и естествознание» — 244, || 245.
Белев, Тульской губ. — 205.
Белоусов Иван, «Литературная Москва» — || 106.
Белый Александр Тимофеевич — || 332.
Белышов Михаил Филиппович — || 331.
Бенкевич Аделаида Фоминична — 112, || 113.
Бенкевич Александр Фомич — 267, || 267.
Бёрнс Элиза (Burnz) — 183, || 173, 181.
— «Diana. A psycho-fisiological essay on sexual relations for married" man and women» («Диана. Психо-физиологический опыт о половых отношениях для женатых мужчин и женщин») — 173, 175, 177, 181, 183, 188, || 174, 176, 181, 182, 183.
— «Письмо к родителям и наставникам» («Творческая сила жизни») — 172, 181, 183, || 173, 183, 189.
Бернштам Леопольд Адольфович — 323, || 323.
Беро Жан (Béraud) — || 126.
Бестужев Николай Александрович — || 158.
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич — || 63.340
341 Бестужевские высшие женские курсы — 62, || 63
Бибиков Александр Дмитриевич — 144, || 145.
Бибиков Александр Николаевич — || 27.
Бибиков Алексей Алексеевич — || 19.
Бибиков Владимир Александрович — 27, || 27.
Бидин Иван Петрович — 300, || 301, 329, 335.
Биншток И. — || 335.
«Биржевые ведомости», газета — || 63.
Бирюков Павел Иванович — 20, 28, 91, 119, 155, 209, 210, 228, 260, 308, 320, || VIII, 6, 7, 20, 22, 26, 27, 29, 31, 42, 68, 91, 96, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 127, 128, 129, 147, 149, 155, 164, 166, 190, 191, 213, 214, 215, 224, 228, 232, 254, 256, 258, 278, 279, 305, 306, 325.
— «Весна человечества» — 6, || 7.
— «Греческий мудрец Диоген» — 185, 190, || 185, 186, 191.
— «Под снегом» — 6, 42, 127, || 7.
— «Лев Николаевич Толстой. Биография» (Б) — || 22, 64, 96, 115, 128, 135, 256, 279, 290, 305.
Бирюков Сергей Иванович — 306, || 306.
Бирюкова Варвара Васильевна — 115, || 115.
Блисс Вильям — || 330.
Богданов Михаил Михайлович — || 332.
Богомолец Александр Александрович — || 174.
Богомолец Александр Михайлович — 173, 199, || 174, 200.
Богомолец Софья Николаевна — 173, || 174, 200.
Богородицкий уезд Тульской губ. — 184.
Богородское, Нижегородской губ. — 29.
Богоявленский Николай Ефимович — || 26.
Болхин Гавриил — || 195.
Болхин Илья — 317.
Бонапарт — 108.
Бондарев Тимофей Михайлович — 123, 144, 201, 257, || 123, 202, 257.
— «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство» — 123, 257, || 123, 202, 257.
— «Le travail» («Труд») — 123, || 123, 124, 144.
Бонч-Бруевич В. Д., «Итоги «Согласия против пьянства» — || 4.
— «Назарены в Венгрии и Сербии» — || 129.
Бооль Клара Карловна — || 329.
Борель (m-r Воrеl) — 194, || 195.
Боровков Никита Петрович — 170, 212, || 170.
Босния — || 151.
Брашнин Иван Петрович — 200, || 200.
Броссэ (H. Brosset) — || 336.
Брэддон Мэри-Елизабет (Braddon) — || 322.
Буайе Поль (Boyer) — || 333.
Будда — 5, 8, || 6, 326.
Буланже Павел Александрович — 81, 123, 209, || 81.
Булгаков Валентин Федорович — || 5.
Булыгин Михаил Васильевич — 144, 146, 166, 215, 317, 320, || 145, 318.
Буткевич Анатолий Степанович — 88, 96, 201, 203, 273, 280, 320, 329, || 86, 87, 88, 89, 200, 274, 311, 314, 315, 321.
Буткевич Андрей Степанович — 88, 91, 92, 144, 146, 201, 273, 280, || 89, 145, 274.
Буткевич Евгения Васильевна — 144, || 145.
Буткевич Елизавета Филипповна — 201, 203, 273, 280, || 274, 328.
Буткевич Т., «О лжеучении графа Л. Н. Толстого» — 285, 320, || 285, 286, 321.
Буткевичи — 209, 296, || 318.
Бутлеров Александр Михайлович — 59, || 61.
Бутс Уильям (Booth) — 281, 312, || 281.
Быстренин Владимир Порфирьевич — 283, || 284.
— «Свой суд» — 283, || 284.
— «Очерки и рассказы» — || 284.
Бьернстьерне-Бьернсон, «In God’s way. A novel» («На божьем пути. Новелла») — 185, || 186.
Вагнер Николаи Петрович — || 58, 60, 61.
Вдовин Иван Матвеевич — 106, || 106.
Вельгорский Антон Константинович — 322, 323, || 323.
Верещагин Василий Васильевич — 124, 146, || 125, 146.
— «О прогрессе в искусстве» — || 125.
«Вестник воспитания», журнал — 188, || 183, 188, 189.
«Вестник Европы», журнал — || 81, 123, 141, 187, 190, 211, 285.
«Вестник теософии», журнал — || 246.
Вечеслов H.A. — || 102.
Виллард Франциска — || 331.
Вильгельми Рихард — || 18.
Вильно — 236.
Вильсон Джон-Генри (Wilson) — || 37.
Вильсон Льюис-Гильберт (Wilson) — 36, 37, || 37, 38, 114, 335.
Винер Цецилия Владимировна (Хилкова) — 28, 92, 135, 224, || 29.
Винслоу Каролина (Winslow) — || 337.
Винтерфельд — || 326.
Владимир Святославич — 77, || 78.
Владыкина Анна Элпидифоровна — 209, 226, 257, || 210.
«Воззвание швейцарского Цюрихского общества трезвости» — 119, || 119.
Возницына Варвара Николаевна — || 48.
«Волжский вестник», газета — || 32.
Вологдина Л. Д. — || 336.
Волчанецкая Магдалина Александровна — || 331.
«Вопросы философии и психологии», журнал — || 177, 244, 287.
«World’s advance Thought», американский журнал — 60, || 241.
Воробьев Ефим Николаевич — 22, || 13, 16, 17, 325.
Воробьевка, Курской губ. — || 136.
Воронеж — 81, 211, 285.
Воронежская губерния — 273.
«В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного», М. 1891 — 68, || 6, 68.
«Врач», газета — 173, || 174.
«Всемирная иллюстрация», журнал — || 309.
«Всемирный вестник», журнал — || 168, 224, 231.
Вяземский Константин Александрович — || 137, 326, 330, 338.
«Газета A. A. Гатцука» — 71, || 73.
Гайдебуров Павел Александрович — 81, 130, 172, 185, 282, 284, 287, || 91, 184, 185, 288, 326, 327, 329, 335, 336.
Гайдебуров Павел Павлович — || 185.
Галилей Галилео — 71, || 73.
Гальперин-Каминский Илья Данилович — || 332.
Гамалиил — 281.
Гамбург — 169.
Ганзен Анна Васильевна — || 78, 79.
Ганзен Петр Готфридович (Hansen) — || 64, 78, 79, 80, 83.
— «Пять дней в Ясной Поляне» — || 79.
— «Толстой и Ибсен» — || 79.
Гапгуд Изабелла (Нарgood) — || 108, 131, 332, 333, 334.
Гаррисон Вендель — 146, || 146, 334.
Гаррисон Вильям-Ллойд — 113, 114, 135, || 108, 114, 141.
— «Декларация» — 135, 144, 166, || 114.
Гастев Петр Николаевич — 281, 295, || 282.
Гатцук Алексей Алексеевич — || 73.
«Гаук или непреоборимая верность» — 50, || 51.
Гауф Л. А. — || 122, 333, 336.
Ге Анна Петровна — 49, 210, 226, 233, 254, 256, 323, || 49.
Ге Иван Николаевич — 19, 20, || 19.
Ге Николай Николаевич (художник) — 22, 24, 29, 42, 49, 100, 107, 108, 112, 122, 124, 139, 140, 144, 169, 176, 178, 183, 192, 198, 221, 226, 235, 252, 254, 256, 273, 289, || XI, 11, 19, 20, 37, 42, 100, 105, 142, 145, 177, 179, 209, 210, 211, 213, 214, 227, 233, 234, 252, 256, 290, 322, 323, 324.342
343 — «Вестники воскресения», картина — 124, || 125.
«Выход с тайной вечери», картина — 210, || 211.
«Милосердие», картина — 124, 210, || 126, 211.
«Молитва в Гефсиманском саду», картина — || 211.
«Петр и Алексей», картина — 210, || 211.
«Совесть» («Иуда»), картина — 213, 226, 233, 235, 252, 254, 255, 256, 273, || 210, 214, 227, 233, 234, 235, 252, 274.
«Тайная вечеря», картина — 124, 139, 210, || 211.
«Что есть истина?», картина — 11, 19, 24, 46, 49, 100, 107, 108, 112, 124, 125, 139, 140, 146, 169, 178, 192, 210, 226, 255, 256, || 11, 12, 20, 46, 108, 142, 193, 211, 227, 257, 323.
Ге Николай Николаевич (сын художника) — 11, 20, 91, 146, 155, 209, 210, 213, 215, 224, 230, 233, 235, 255, 260, 268, 293, 307, || XI, 11, 19, 22, 24, 25, 48, 49, 57, 69, 70, 115, 117, 155, 214, 224, 225, 227, 232, 233, 256, 257, 288, 289, 294, 322, 323, 324.
Ге Прасковья Николаевна — 257.
Германия — 178, || 122, 211.
Герцеговина — || 151.
Герцен Александр Иванович — 133, || 134.
«Письмо к императору Александру II» — 133, || 134.
Герье Владимир Иванович — || 63.
Герье В. И. высшие женские курсы — 62, || 63.
Гец Файвель-Меер Бенцелович — || 5, 98, 99, 100, 117, 118, 191, 247.
«Слово подсудимому!» — 247, || 118, 192, 247.
Гильдовская Надежда Александровна — || 336.
Гинцбург Илья Яковлевич — 323.
Глинский Б. Б. — || 288.
Глодоссы, Херсонской губ. — 96, 97.
Гоголь Николай Васильевич — 150, || XXI.
«Вий» — || XXI.
«Мертвые души» — || XXI.
«Невский проспект» — XXI.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — || XXI.
«Шинель» — || XXI.
«Голос минувшего», журнал — || 5, 126, 204, 235, 305.
«Голос Толстого и Единение», журнал — || 13, 78.
«Голуа», французская газета — || XIX.
Гольденвейзер А. Б., «Вблизи Толстого», — || 199.
Гольцев Виктор Александрович — 119, 198, 228, 290, || 129, 130, 132, 150, 151, 204, 215, 216, 228, 275.
«Рассказ про смутное время на Руси» — 215, || 216.
Гончаров Иван Александрович — || 121.
Горбунов Николай Иванович — 100, 260, || 100, 119, 263.
Горбунов-Посадов Иван Иванович — 20, 78, 82, 88, 91, 92, 255, 257, 258, 260, 318, 319, || 20, 29, 45, 55, 56, 80, 100, 105, 106, 119, 227, 228, 233, 236, 246, 253, 254, 256, 264, 270, 278, 283, 284, 314, 327, 328, 329.
Горбунова-Посадова E. E., «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт» — || 126, 145, 155, 178, 179, 204, 235, 305.
Горева E. Н. — || 331.
Горький Алексей Максимович — || XXII.
«Мои университеты» — || 227.
Собрание сочинений, М. 1951 — || XXII.
Государственная Третьяковская галлерея (Москва) — || 11, 108.
Государственный музей Л. Н. Толстого Академии наук СССР — || 26.
Гоуторн Натаниель (Hawthorne) — 130, || 131.
Гоуэлс Уильям-Джон (Howells) — 130, || 131.
«The undiscovered country» («Неведомая страна») — || 131.
«The Rise of Silas Laphan» («Карьера Сайлеса Лафена») — || 131.
Граве Мария — || 336.
Графская, ст. Козловско-Воронежской ж. д. — 5.
«Грех и безумие пьянства. Сборник поучений против пьянства», изд. И. Д. Сытина, М. 1890 — 3, || 4.343
Грибовский Вячеслав Ми хайлович — || 47, 192.
Григорович Дмитрий Васильевич — || XXI, XXII.
— «Антон Горемыка» — || XXI.
Гризбах Иоганн-Якоб (Griesbach), «Novum Testamentum graece» («Новый завет по-гречески») — 201, || 202.
Гриневка, Тульской губ. — || 211.
Гринштайн Константин Андреевич — || 272, 327.
Грот Николай Яковлевич — 243, || 244, 329.
Грубый Яромир — || 331.
Грузинский Алексей Евгеньевич — || 102.
«Гуак, или непреоборимая верность», повесть — 50, || 51.
Губанов Т. А. — || 51.
Губкина Анна Сергеевна — || 153.
Гудзий H., «Толстой и Лесков» — || 198.
Гуревич Любовь Яковлевна — || 288.
Гусев H. H., «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» — || XIV.
Гюго В., «Отверженные» — || XVIII.
Гюйон Ж.-М. (de la Moth Guyon), «La Sainte Bible» («Святая библия») — || 161.
Давыдов Николай Васильевич — 249, || 155, 156, 170, 184, 212, 250.
— «Из прошлого» — || 17.
— «Письма Толстого к Давыдову» — || 184.
Дамиен де Вестер Иосиф — 116, || 117.
Данилевский Николай Яковлевич — 160, || 161.
— «Дарвинизм» — 94, || 95, 161.
— «Россия и Европа» — || 161.
Данте Алигиери — || 151.
Дарвин Чарльз — || 95.
Данцигер — || 333.
Делянов Иван Давыдович — 251, 252, 287, || 252.
Деменка, Тульской губ. — 301, || 302.
Дерпт — 218, 229, 264.
Дефо Д., «Робинзон Крузо» (Пятница) — 232, 234, || 233.
Джунковская Елизавета Владимировна — || 29.
Джунковские — 28, || 29.
Джунковский Николай Федорович — 314, 320, || 29, 321.
Дидро Дени — 276, 287, || 277.
— «De l’interprétation de la nature» («Об истолковании природы») — 276, || 277.
— «Oeuvres choisies. Edition du centenaire», Paris 1884» («Избранные сочинения. Издание к столетию со дня смерти») — || 277.
Диккенс Ч., «Давид Коперфилд» — || XVIII.
Диллон Эмилий Михайлович (Dillon) — 204, 210, 235, XVII, || 45, 56, 82, 83, 204, 235, 271, 272, 308, 327, 329.
— «Граф Лев Толстой» — || XVII.
— «Gay, Artiste and Apostle» («Ге, художник и апостол») — 210, || 211.
Дмитриев А. П. — || 332.
Добровольский Н. О. — || 328.
Добрыня Никитич — || XX.
Долгоруково, Пензенской губ. — || 141.
Дольнер Анатолий Владиславович — 88, 171, 208, 253, || 50, 89, 171, 204, 205, 253, 327.
Домбровский М. — || 335.
Доре Гюстав (Doré) — 124, || 126.
Достоевский Федор Михайлович —50, 281, 296, || XXII.
— «Братья Карамазовы» — 281 (цит.), || 282.
— «Дневник писателя» — 296.
Доул Натаниель (Dole) — || 108, 331, 334.
Драйзер Теодор — || XVIII.
Друммонд Генри — 130, || 131.
— «The greatest thing in the World» («Самое великое в мире») — 130, 224, || 131, 225.
Дубровина — || 325.
Дугино, Тверской губ. — || 263, 282, 322.
Дудченко Митрофан Семенович — 307, 308, 314, 315, 316, 324, || 307, 309, 311, 315.
Дудченко Николай Иванович — 307, 308, 314, || 309.
Дунаев Александр Никифорович — 72, 96, 97, 100, 119, 232, 235, 254, 266, 268, 290, 291, 296,344 345 315, 319, || 97, 171, 172, 200, 248, 249, 250, 258, 259, 291, 315, 317, 318, 334, 335.
Дурново Иван Николаевич — 173, || XIV, 174.
Душкин Леонтий Евсеевич — || 43.
Дюма Александр (сын) — || XIX.
Дюма Ж., «Толстой и философия любви» — || XVII.
Евдокимов Алексей Андреевич — 11, || 11, 325.
Европа — 130, 138, 148, 169.
«Единение», журнал — || 249, 300.
«Ежемесячный журнал» — || 131, 142, 185, 271, 281, 322.
Екатеринославская губерния — 278, 280.
Елизавета Английская — 140.
Елисаветград — 203.
«Елисаветградские новости», газета — || 202, 274.
Еропкин Виктор Васильевич — 101, || 102, 158.
Ещенко Емельян Максимович — 127, || 129, 193, 194.
Желтов Федор Алексеевич — 29, 64, || 29, 65, 83, 85, 106.
Жемчужников Александр Михайлович — || 186.
Жемчужников Алексей Михайлович — || 186, 187.
— «Загробная тоска» — 186, || 187.
Жемчужников Владимир Михайлович — || 186.
Женева — 30.
Жиркевич Александр Владимирович — || XXIV, 120, 121, 132, 182, 236, 327.
— «Картинки детства» — 120, || 121.
Журавов Иван Герасимович — || 206, 207, 333, 337.
Заарбеков — || 330.
Завалишин Дмитрий Иринархович — || 325.
Загоскин Владимир Николаевич — || 176.
Загоскина Екатерина Дмитриевна — || 176.
Закхей — 221, 263.
«За совесть», статья неизвестного автора (рукопись) — 127, || 129
Засодихмский Павел Владимирович — || 219, 328.
— «У потухшего камелька» — 219, || 219.
Засулич Вера Ивановна — 266, || 267.
Захарченко А. К. — || 330.
Захарьин (Якунин) Иван Николаевич — || 330.
Зеленецкий Алексей Алексеевич — || 43, 45.
Зеленецкий Дмитрий Алексеевич — 251, 287, || 287.
Землянск, Воронежской губ. — 123.
Зиновьев Михаил Алексеевич — 300, || 302, 329.
Зиновьев Николай Алексеевич — || 302.
Зозулин Иван Петрович — || 332.
Золотарев Василий Петрович — 88, 89, 92, 96, 146, || 89, 97, 103, 121, 158, 159, 268, 269.
— «О «Крейцеровой сонате» — 97, 121, || 97, 121.
Золотарев Максим Петрович — 146, || 146.
Золотарев Петр Иванович — || 97.
Золотаревский Н. Г. — || 326.
Золя Эмиль — || XIX.
— «Юношеству» — || XIX.
Зонов Алексей Сергеевич — || 65, 66, 326, 328, 336.
Зуль-Дубле Е. Е. — || 327.
Ибсен Генрик — || XVIII.
— «Бранд» — || XVIII.
Ивангород, Черниговской губ. — || 227.
Иванов Александр Андреевич — 124, || 126.
— «Явление Христа народу», картина — || 126.
Иванов Александр Петрович — 248, 305, || 249, 306.
Иванов Г. И. — || 333.
Иванов Николай Никитич — 119, || 119.
— «Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве. Сцены» — 119, || 119.
Ивановское, Костромской губ. — 258, 306.345
346 «Известия Общества Толстовского музея» — || 60, 293.
Иисус Христос — 9, 12, 13, 14, 16, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 55, 56, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 77, 83, 85, 91, 92, 93, 94, 97, 108, 109, 110, 113, 114, 124, 125, 128, 137, 139, 140, 148, 157, 171, 172, 178, 187, 200, 201, 207, 220, 221, 222, 223, 231, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 255, 260, 261, 262, 274, 295, 297, 298, 299, 301, 304, 310, 313, 333, 334.
Ильин Николай Дмитриевич — 139, 146, 169, 178, 210, 289, || 100, 142.
— «Дневник толстовца» — || 334.
Ильина Александра Константиновна — 169, 183.
Илья Муромец — || XX.
Иоанн Кронштадтский. См. Сергиев И. И.
Ирод — 223.
Истомин Владимир Константинович — 316, || 316.
«Исторический вестник», журнал — || 196.
Италия — 127.
Иуда — 213.
Кавказ — 171, 205, 321.
«Казанский биржевой листок», газета — || 32.
Казань — 3, || 176.
«Календарь для всех» — || 66.
Калигула (Гай-Цезарь Германик) — 53, || 54.
Калмыкова Александра Михайловна — 160, || 151, 152, 154, 168, 169, 183, 189.
Кана (город в Галилее) — 109.
Каневский Анатолий Николаевич — || 326.
Кантер Хаим-Вульф Липманович — 307, || 70, 73, 308.
Каралык, Самарской губ. — 111, || 111.
Карзинкина Елена Андреевна — || 327.
Каррик — || 185.
Касаткин Николай Алексеевич — || 206.
Кассирер — || 333.
Катаев Н. М. — || 284.
Каулин Иоганн (Kaulin) — || 332.
Квасоварова — 283, 284, || 284.
Кедров Константин Васильевич — 251, || 252.
Кейдель И. — || 293, 328.
Кемпбэлл Гамильтон (Campbell) — || 237, 239.
Кеннан Джордж (Кеппап) — || 138, 141, 327.
— «А visit to count Tolstoi» («Посещение графа Толстого») — || 141.
— «Siberia and the Exile System» («Сибирь и система ссылки») — || 141
Киев — 11.
Киркегор Сёрен-Обю — || 79.
— «Enter-Eller» («Одно из двух») — || 79.
— «Stadien paa Lebens» («Стадии жизненного пути») — || 79.
Кирьяков Н. — || 329.
Клари Ганс (Clary), «Le devoir conjugal» («Супружеский долг») — 183, || 183.
Клинг Г. (Kling) — || 337.
Клобский Иван Михайлович — 226, 255, 273, || 227.
«Книжки Недели» — || 131, 185, 196, 214, 284, 304.
Ковальская П. Ф. — || 227.
Ковальский Алексей Максимилианович — 226, || 227, 257.
Ковалевский П. О. — || 337.
Коган Наталья Николаевна — 157, || 158.
Козлова Засека, ст. Московско-Курской ж. д. — 11, 186, 254, 255, 257, 300.
Колосов Михаил Антонович — || 332.
Кольридж Самуэль-Тэйлор (Coleridge) — 176, 199, || 177.
— «Aids to reflection in the formation of a manly character, on the several Grounds of Prudence, Morality and Religion» («Помощь в размышлении для образования мужественного характера на основах благоразумия, нравственности и религии») — 176, 199, || 177.
Кони Анатолий Федорович — || 10.
Коновалова Е. И. — || 51.
Конт Огюст — || 32.
«Contemporary Review», английский журнал — || 235.
Коперник Николай — 71, || 73.
Коппе Ф., «Le Pater» («Отче наш») — 278, 284, || 278, 284.346
347 Корнинг Т. Г. (Korning), «Hygiene der Keuscheit» («Гигиена целомудрия») — 151, || 152.
Коротков Н. П. — || 336.
«Correspondence between count Leo Tolstoy, Rev. Adin Ballou and Lewis G. Wilson and Y. Tchertkoff» («Переписка между графом Львом Толстым, пасторами Адином Баллу и Льюисом Г. Вильсоном и В. Чертковым») — || 37.
Кострома — 258, 306.
Крамской Иван Николаевич — 124, || 126.
— «Христос в пустыне», картина — || 126.
Крапивна, Тульской губ. — 194, || 145, 195, 203.
Кривцов Николай Иванович — 133, || 134.
Кривцов Сергей Иванович — || XXIII, 134.
Крильмэн Джемс — 267, 271, 276, || 267, 272.
Кромвель Оливер — 108.
Кросби Маргарита — || 332.
Кроуфорд Ф. Марион (Crawford) — || 335.
Крюков Михаил Фомич — 27, 165, 301, || 27, 166, 302.
Ксения Александровна (дочь Александра III) — || 302.
Кудрявцев Дмитрий Ростиславович — || 245, 246, 247.
— «Идеалы Христа» — 245, || 247.
— «Первое Presto. (Размышления вагонного пассажира, выслушавшего исповедь Василия Гавриловича Позднышева)» — 245, || 247.
— «Первое Presto» и «Идеалы Христа», коим предшествует письмо Льва Николаевича Толстого к автору и ответ на него», Genève 1893 — || 246.
Кудрявцева Мария Петровна — || 335.
Кудрявцева Мария Федоровна — || 328.
Кузминская Вера Александровна — 199, 218, 300, 301, || 200, 301.
Кузминская Мария Александровна — 173, 218, 300, || 174, 218.
Кузминская Татьяна Андреевна — 170, || 41, 47, 170, 174, 218.
Кузминский Александр Михайлович — 40, 173, 218, || 41, 174, 327.
Кузнецова Варвара Дмитриевна — || 336.
Кузнецова Екатерина Семеновна — 153, 154, 155, 178, || 154.
Кузнецова Мария Кирилловна — 300, || 302.
Кузьмин Гавриил — || 329, 335.
Куинджи Архип Иванович — 254, || 256.
Кульженко Сергей — || 335.
Куприянов Александр Петрович — || 4, 325.
Курск — 201, 203, 308.
Кутьма, Тульской губ. — || 212.
Кэн Холл (Kaine) — || 335.
Кюршнер Иосиф — || 337.
Лавелэ Эмиль (de Laveleve) — || 179, 180.
— «Le droit et la morale en économie politique» («Право и мораль в политической экономии») — 179, 180, || 180.
— «Le luxe» («Роскошь») — 179, 180, || 180.
— «Le vice légalisé et la morale» («Узаконенный порок и мораль») — 179, 180, || 180.
— «Современный социализм» — || 180.
Лазаретти Давид — 127, || 129.
Лайэль Эдна (Lyall) — 130, || 131.
— «Donovan» — 130, 184, || 131, 185.
— «We Two» («Мы двое») — 130, || 131.
Ланг Джозеф — (Leng) — || 335.
Лас-Каз (comte de Las-Cases), «Mémorial de Sainte Hélène» («Дневник на острове св. Елены») — 5, || 5.
Лёве Евгении Августович (von Loewe) — || 122.
Лёвенфельд Рафаил (Löwenfeld) — 132, || 17, 18, 122, 132, 325, 330, 331.
— «Gespräche über und mit Tolstoi» («Разговоры с Толстым и о Толстом») — 268, || 17, 269.
— «Leo N. Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschaunung» («Лев H. Толстой, его жизнь, произведения, миросозерцание») — || 17.347
348 Ледерле Михаил Михайлович — || 337.
Лейтейзен Г. Д. — || 87. Лейтон Роберт (Leighton) — 176, || 177.
Ленин Владимир Ильич — || VI, VII, VIII, XIV.
— «Признаки банкротства» — XIV.
— Сочинения — || VI, VII, VIII, X, XIV.
Ленский Анатолий Александрович — || 328.
Леопарди Джакомо — || 151.
Лепоринская — 91, || 91.
Лермонтов Михаил Юрьевич || XXI.
— «Герой нашего времени» — || XXI.
— «Тамань» — || XXI.
Лесков Николай Семенович — 204, 227, 229, 231, 235, || XI, XXIII, 151, 198, 199, 225, 228, 230, 232, 327, 328, 329.
— «Обуянная соль» — 225, || 225.
— «Письма Н. С. Лескова», под ред. С. П. Шестерикова — || 198.
— «Под Рождество обидели» — 224, 231, 235, || 224, 225, 232, 235.
— «Час воли божией» — 198, || 199.
«Летописи. Государственный литературный музей», сборники — || 8, 19, 26, 31, 32, 50, 51, 54, 66, 67, 68, 79, 86, 87, 88, 102, 157, 175, 203, 208, 219, 225, 247, 260, 303.
«Летопись», журнал — || 99, 118, 119.
Ли Анна — 148.
Ли Джозеф (Lee) — || 333.
Лилиенталь Вильгельм — || 337.
Лисицын Михаил Михайлович — || 109, 110, 217, 218, 229, 230, 242, 263, 264.
«Литературная мысль», альманах — || 110, 218, 229, 264.
«Литературное наследство», журнал — || 45, 108, 109, 121, 132, 182, 236, 247.
Литошенко Дмитрий Абрамович — || 325.
«Л. H. Толстой и H. H. Ге. Переписка», изд. «Academia», М.—Л. 1930 (ТГ) — || 11, 12, 20, 141, 146, 210, 214, 323.
Ловягин Николай Владимирович — || 336.
Лопухин И., «Некоторые черты о внутренней церкви» — || 161.
Лосинский Семен Алексеевич — 283, || 283.
Лыткин Г. — || 331.
Льгов, Курской губ. — 171.
Лэр Симон (Lehr) — || 336.
Любарская Анна Львовна — 274, || 274
Любич Ефим Николаевич — 28, 46, 64, 231, 320, 321, || 29, 321.
Любич Федосия Павловна — 28, || 29.
Людовик XIV — 108.
Магомет — 8, 9, 16.
Майнов Владимир Николаевич — || 38, 39.
Макарий, митрополит (Михаил Петрович Булгаков) — 30, || 31.
— «Догматическое богословие» — || 31.
Макаров Антон Игнатьевич — 243, || 243.
Макаров Игнат Севастьянович — 242, || 243.
Макаров Сергей Игнатьевич — 243, || 243.
Маковицкий Душан Петрович — || 164.
Маковский В. E., «Осужденный», картина — 210, || 211.
Маликова Елизавета Александровна — 101, || 102.
Мальц Альберт — || XV.
Манасеин Вячеслав Авксентьевич — || 174.
Маракуев Владимир Николаевич — 337.
Мария Федоровна (жена Александра III) — || 302.
Марк Аврелий — || 326.
Маркович Мария Борисовна — || 335.
Массачузетс (США) — 140
Мацкина — || 314, 315.
Миндер Егор Филиппович — || 336.
«Минувшие годы», журнал — || 10, 263, 296.
Моисей — 16, 83, 135.
Монтэнь Мишель (de Montaigne) — 94, || 95.
— «Essais» («Опыты») — 94 (цит.), || 95.
Морозов — 127, || 129.
Москва — 3, 17, 32, 72, 102, 103, 116, 160, 172, 175, 187, 190, 200, 205, 208, 226, 228, 232, 235, 242,348 349 248, 250, 254, 257, 259, 268, 273, 305, 307, 315, 316, 318, || 4, 10, 43, 68, 75, 99, 235, 254.
Мотовилова Анна Ивановна — || 335.
Муравьев Николай Николаевич (Карский) — 321, || 321.
— «Турция и Египет в 1832 и 1833 гг.» — || 321.
Мюллер Макс — 120, || 121.
— «Lectures on the science of language» (русское изд. «Наука о языке») — || 121.
— «Наука о мысли», СПб. 1891 — 244, || 245.
Нагим — 111, || 111.
Назарьев В. H., «Жизнь и люди былого времени» — || 196.
Наполеон I — 4, 5, 140, || XXI, 5.
«Наука и жизнь», журнал — || 32.
«New Christianity», американский журнал — 42, || 42, 43.
«New York Herald», американская газета — 271, 276, || 267, 272.
«Неделя», газета — 81, 130, 172, 181, 190, 282, || 174, 191.
Немолодышев Никита Арсеньевич — || 25, 26, 325.
Нечаевы — || XII.
Никанор, архиепископ (Александр Иванович Бровкович) — 187, || 188.
— «О том, что ересеучение графа Льва Толстого разрушает самые основы не только православно-христианской веры, но и всякой религии» — || 188.
— «Против графа Льва Толстого. Восемь бесед» — || 188.
Никифоров Лев Павлович — 184, 190, 266, 279, 294, 295, || 130, 131, 132, 142, 143, 185, 270, 271, 280, 281, 282, 296, 322.
— «Лев Николаевич Толстой. Биографические сведения» — 281, || 282.
— «Ф. М. Достоевский. Задачи русского народа» — 281, 296, || 282.
Никифорова Екатерина Ивановна — 185, || 186.
Николаевский Б., «Свод разновременно поступивших указаний на вредное в политическом отношении направление писателя Льва Толстого» — || 34.
Новиков Алексей Митрофанович — 249, || 250.
Новицкий Алексей Петров вич — || 325.
«Новое время», газета — 172, 235, || 47, 177, 235.
«Новое слово», журнал — || 136.
Новоселки, ст. Курско-Киевской ж. д. — 46.
Новоселов Михаил Александрович — 10, 144, 268, 273, || 10, 52, 53, 326, 327.
«Новый путь», журнал — || 52.
«Nоn-rеsistаnt» («Непротивляющийся»), американский журнал — || 114.
«Nord und Sűd», немецкий журнал — || 17.
«La Nouvelle Revue», французский журнал — || 125.
Нью-Йоркская публичная библиотека — || 73.
Ньютон Вильям Вильберфорс (Newton) — || 108, 334.
Оболенская Елизавета Валерьяновна — 187, || 188.
Оболенский Леонид Егорович — || 61, 63.
— «Открытое письмо Л. Н. Толстому (по поводу «Крейцеровой сонаты») — || 63.
Огарева-Тучкова Наталья Алексеевна — || 141, 142.
Одесса — 204, 208, 293, 307, 314.
«Одесское общество для борьбы с пьянством» — || 209.
O’Меарa (O’Meara), «Napoleon in exile or a voice from St. Helen» («Наполеон в изгнании, или голос со св. Елены») — 5, || 5.
«О половом вопросе», сборник — || 117.
Оптина пустынь, Калужской губ. — 59, || 38, 61.
Орлов Александр Иванович — 150, 275, || 151, 327, 329, 330.
— «Н. В. Гоголь, как учитель жизни» — 150, || 151.
— «Французский ученый Паскаль, его жизнь и труды» — 150, || 151.
Орлов Владимир Федорович — 93, || 95.
Орфано Александр Герасимович — 156, || 157, 158.
— «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека.349
350 (Критический разбор книги гр. Л. Н. Толстого «В чем моя вера?»)» — 187, || 157, 158, 188.
«Освобождение труда» — || 267.
Осипов Владимир Алексеевич — 18.
Остен-Сакен Федор Романович — || 326.
Павел, апостол — 167, 297.
Павловка, Орловской губ. — || 187.
«Pall Mall Вudgеt», английский журнал — 138, || 141.
«Памяти Виктора Александровича Гольцева», М. 1910 — || 275.
Панов Валерьян Кононович — 200.
Паньков В. А. — || 328.
Париж — 123, || 123.
Парижская коммуна — || 271.
Паскаль Блез — 150, 275, 300, || 151, 326.
— «Pensées» («Мысли») — 150, 300 (цит.), || 151, 300.
Пастухов Алексей Алексеевич — 80, 86, 96, 123, 205, || 88, 89 327.
Пафомов А. А. — || 332.
Пенза — 138, || VI, 101, 141.
«Переписка Л. Н. Толстого с г р. А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского музея — || 225, 317.
«Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым», изд. Общества Толстовского музея (ПС) — || 94, 95, 136, 161, 173, 174, 177, 199, 200, 217, 229, 244, 245, 252, 277, 287.
Петербург — 17, 20, 28, 29, 38, 46, 51, 56, 60, 64, 80, 100, 102, 103, 139, 146, 151, 169, 173, 178, 183, 184, 199, 208, 219, 229, 235, 254, 260, 271, 273, 276, 285, 289, 304, 319, || 101, 187, 277, 283, 326.
«Петербургская газета» — 224, || 225.
Петр, апостол — 24, 207, 213, 298, || 25.
Петр I — 147.
Петухова Зинаида Васильевна — || 337.
Пиа Феликс (Pyat) — || 271.
Пилат — 139, 140, 333, 334.
Пирогово, Тульской губ. — 250, || 100, 251.
Писаревский С. — || 337.
«Письма В. Фрея к Л. Н. Толстому», Genève 1887 — || 32.
«Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л. 1927 — || 47.
«Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», М.—Л. 1928 — || 75, 133, 134, 142, 225, 228, 230.
Пифагор — 190, 292, || 191.
Плиски, Черниговской губ. — || 12.
Плутарх — 152, || 153.
— «Плутарх. Сравнительные жизнеописания», вып. 1-й, «Тезей и Ромул», изд. А. С. Суворина, СПб. 1891 — || 153.
Погодин Александр Дмитриевич — || 53, 54, 67.
Познанская С. К. — || 233.
Покровский Егор Арсеньевич — || 188, 189.
— «Об уходе за малыми детьми» — || 188.
Полежаев Федор Иванович — || 335.
Поленов Василий Дмитриевич — 124, || 126.
— «Грешница», картина — || 126.
Полонский Александр Яковлевич — 260, || 260.
Полонский Яков Петрович — || 259, 260.
— «Вечерний звон» — 259, || 260.
— «Детство» — 259.
— «И. С. Тургенев у себя в последний приезд на родину» — || 260.
Полтава — 201, 203, 274, 278, 314, || 274, 315.
Полушин Николай Абрамович — || 331.
Полушкин Николай Павлович — || 336.
Попов — || 329.
Попов Василий Иванович — 3, || 4.
Попов Евгений Иванович — 100, 127, 128, 209, 211, 268, 273, || 7, 8, 89, 90, 128, 147, 149, 161, 164, 166, 178, 211, 269, 274, 291.
Попов Николай Ильич — || 330.
Попов Петр Васильевич — || 12, 13, 327, 328.
Попова Елена Александровна — 90, || 90.
«Посредник», издательство — 20, 28, 105, 130, 145, 150, 270, 282, 332, 337, || 5, 26, 29,350 351 37, 66, 106, 185, 191, 207, 284, 294.
«Поющее дерево и птица говорунья», русская народная сказка — 226, || 227.
«Прибалтийский край», газета — || 218.
Приселковы — || 332.
Прозин Виктор Васильевич — || 73, 74.
Прокопенко Семен Павлович — 91, || 91.
«Пролог», М. 1877 — || 111.
«Против пьянства», изд. «Посредник», М. 1893 — || 119.
Прохоров Василий Петрович — || 331.
Пругавин А. С., «Религиозные отщепенцы» — || 129.
Пуарэ Пьер (Poiret) — 160, || 161.
— «L’oeconomie divine» («Божественная экономия») — || 161.
Публичный Румянцевский музей (Москва) — 187, || 188.
Пугачев Емельян Иванович — 294.
Пушкин Александр Сергеевич — || XX, XXI.
— «Евгений Онегин» — || XXI.
— «Наполеон» || XX.
Пыжевич Фрол Софроньевич — || 331.
Пэн Томас (Paine) — 276, || 277.
— «The age of reason» («Век разума») — 276, || 277.
Рагозин Ефим Григорьевич — || 327.
Раевские — || XII.
Рахманов Владимир Васильевич — 88, 91, 92, 96, 144, 203, 268, 273, 279, 281, 289, || 8, 10, 52, 74, 145, 260, 263, 279, 294, 296.
— «Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидесятых и начале девяностых годов» — || 10, 145.
— «Семь писем Льва Николаевича Толстого» — || 10, 296.
Рачинский Сергей Александрович — || 74, 75, 76.
— «Из записок сельского учителя» — || 75, 76.
— «Письмо к воспитанникам Казанской учительской семинарии» — || 76.
«Review of Reviews», английский журнал — 138, 210, || 83, 141.
«La Revue de morale progressive», французский журнал — 183, || 183.
Рейнгардт Николай Викторович — || 32.
— «Воскресение» гр. Л. Н. Толстого и вопросы уголовного права» — || 32.
— «Из истории 60 годов. Необыкновенная личность (Вильям Фрей)» — || 32.
— «Необыкновенная личность», Казань 1889 — 32, || 32.
Ренан Жозеф-Эрнест — 163, 210, 216, 217, 249, || 164, 250.
— «L’abbesse de Jouarre» («Жуарская аббатиса») — 163, || 164.
— «L’avenir de la science» («Будущее науки») — 210, 216, 249, || 211, 250.
Репин Илья Ефимович — || 121, 323.
Рескин Джон — || 131.
«Речи против пьянства. Что 12 лет тому назад уже сделано в Англии и о вопросу о пьянстве», М. 1888 — 228, || 228.
Ржевск, Воронежской губ. — 190, || 100.
Рига — 300.
Ризенкампф — || 326.
Риккер Карл Леопольдович — || 174.
Рим, государство — 125.
Рогаская Анна Казимировна — || 328.
Родионов Иван — 288.
«Родник», журнал — 304, || 196.
Розанов Василий Васильевич — 176, || 177.
— «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» — 176, || 177.
Розенберг М. — || 333.
Роллан Роман — || XVI, XVII, XVIII.
Роскошный — || 122.
Россия — 72, 107, 298.
Россоша, Воронежской губ. — 100, 217, 268, 278, 284.
Ростов-на-Дону — 251.
Ростовский Яков Иванович — || 336.
Рощин Сергей Иванович — 146, 280, || 146.
Рубакин Николай Александрович — || 329.
Рубан-Щуровская Зоя351 352 Григорьевна — 210, 220, 226, 289, 323, || 211, 220.
Рубан-Щуровские (Рубаны) — 257.
Рубан-Щуровский Григорий Семенович — 91, 146, 210, 226, 233, 289, 323, || 91, 211, 219, 220, 227, 328.
Ругин Иван Дмитриевич — 42, 96, 115, 127, 128, 146, 165, 166, 190, 273, || 42, 90, 91, 97, 115, 128, 326, 328.
Румянцев Василий Николаевич — 72, || 73.
Русанов Андрей Гаврилович — 81, 285, || 81, 286.
Русанов Борис Гаврилович — 285, || 286.
Русанов Гавриил Андреевич — 88, 204, 205, 209, || 80, 81, 122, 123, 124, 189, 190, 211, 284, 285, 286.
Русанова Антонина Алексеевна — 81, 285, || 81.
Русаново, Тульской губ. — 201, 273, || 202, 318.
«Русская мысль», журнал — 130, || 129, 130, 170, 186, 290.
«Русская старина», журнал — || 158.
«Русские ведомости», газета — 290, || 47, 198, 290.
«Русский вестник», журнал — || 95.
«Русское богатство», журнал — || 63.
«Русское обозрение», журнал — 198, 278, 284, 318, 319, || 196, 278, 287.
«Русское слово», газета — || 177, 283.
Руссо Ж. Ж., «Исповедь» — || XVIII.
— «Эмиль» — || XVIII.
Рэйсс Эдмунд — || 331, 332.
Сазонов А. Д. — || 51.
Самара — 18.
Самарина Александра Павловна — || XII.
Самарины — || XII.
Сахарова М. — || 336.
Сведенборг Эммануил (von Svedenborg) — || 42.
Свешникова Елизавета Петровна — || 335.
Свифт Джонатан (Swift) — 139, || 142.
— «Путешествия Лемюэля Гулливера» — || 142.
Свободин Павел Матвеевич — || 328.
«Свободная мысль», журнал — || 73, 224.
«Северный вестник» журнал — 287, || 288, 319.
Семевский Михаил Иванович — || 325, 337.
Семенов Николай Петрович — 199, || 199.
Семенов Сергей Терентьевич — 284, 290, 318, || 54, 55, 207, 208, 282, 287, 290, 319.
— «Братья Бутузовы» — 282, 284, 287, 290, 318, 319, || 282, 288, 290, 319.
— «Крестьянские рассказы» — || 282.
Сен-Симон Анри-Клод — || 296.
Сен-Франсуа Анжела (de Saint-François), «L’amour pur» («Непорочная любовь») — 175, || 176, 335.
Сербия — 127, || 151.
Сергеенко П., «Л. Толстой и Н. Лесков» — || 198.
Сергиев Иоанн Ильич (Кронштадтский) — 134, 135, 312, || 135.
Сибирь — 127.
Сиверцев П. — || 333.
Симон Федор Павлович — || 33, 34.
Симоновская Мария Дмитриевна — || 333.
Симонсон Мария Федоровна — 308, 309, 314, 315, 316, || 309, 310, 311, 315.
Скороходов В. И., «Из воспоминаний старого общинника» — || 263.
Скотт Вальтер, издатель — || 83.
Скублинская Марианна — 72.
Сливицкий Александр Михайлович — 242, || 243.
— «Повесть о Савве Грудцыне» — 242, || 243.
— «Разоренное гнездо» — 242, || 243.
— «Урок смирения» — 242.
«Слово», газета — || 192.
Слюсарева Агафья Игнатьевна (Гапка) — 24, 226, 257, || 25, 227.
Смирнов Евграф, «История352 353 христианской православной церкви» — 160, 168, || 152, 161.
Смит Юлия — || 331, 336.
Соболевский Александр — || 330.
Соболевский Василий Михайлович — || 47.
«Современные записки», журнал — || 187.
«Согласие против пьянства» — 3, || 4, 110.
Соколова Екатерина Дмитриевна — || 331.
Сокольников Ипполит Константинович — || 336.
Соллогуб Федор Львович — 184, || 184.
Соловьев Александр Титович — 3, || 4.
— «Татьянин день. Ответ на возражения Льву Толстому» — 3, || 4.
Соловьев Владимир Сергеевич — 55, 160, 173, 199, 247, || 45, 56, 118, 247.
— «Мнимая борьба с Западом» — 160, || 161.
— «Немецкий подлинник и русский список» — || 200.
— «Счастливые мысли Н. Н. Страхова» — || 200.
Солодовиикова Елизавета Ивановна — || 327.
Софронов Сергей Павлович — || 253, 254, 326.
Спенглер Ольга Николаевна — || 107, 329.
Спенглер Федор Эдуардович — || 107.
Спенглеры — 106.
Спенсер Герберт — 275, 276, || 277.
— «Classification of the sciences» («Классификация наук») — 276, || 277.
Спиноза Барух — || 326.
Спринг Ромней (Spring) — || 37.
Сталин И. В., «Сочинения» — || XX.
Стасов В. В., «Верещагин об искусстве» — || 125.
— «Николай Николаевич Ге» — || 20, 142, 211.
Стахович Михаил Александрович — || 283.
Степаненко Н. Н. — 106.
— «Хата и другие рассказы», Ромны 1893 — || 106.
Степанов Александр Петрович — || 331.
Степанова Ольга Аполлоновна — || 333.
Стивенс Уриель — || 257.
Стороженко Николай Ильич — 5, || 5.
Страхов Николай Николаевич — 122, 259, 283, 285, || XX, XXXII, 93, 94, 95, 114, 136, 152, 160, 161, 172, 173, 174, 176, 177, 199, 200, 216, 228, 229, 243, 244, 245, 251, 252, 275, 278, 286, 287.
— «Борьба с Западом в нашей литературе» — 93, || 95, 161, 177.
— «Воздушные явления» — 93, || 95.
— «Воспоминания о поездке на Афон» — 93, || 95.
— «Герцен о Париже и Старой Польше» — || 95.
— «Из истории литературного нигилизма. Письма Н. Косицы. Заметки летописца и пр.» — 199, || 200.
— «Новая выходка против книги Н. Я. Данилевского» — || 174.
— «О законе сохранения энергии» — 176, 244, || 177, 245.
— «Перелом» — 94, || 95.
— «Письма о нигилизме» — 94, || 95.
— «Роковой вопрос» — 94, || 95.
— «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» — 94, || 95.
— «Толки об Л. Н. Толстом» — 277, 285, 286, || 278, 286, 287.
Стэд Уильям-Томас (Stead) — 82, 138, || 83, 141, 330.
— «The Story of the Month: Count Tolstoi’s Kreutzer Sonata» («Литературная новинка месяца: «Крейцерова соната» графа Толстого») — 82, || 83.
Стэдберг Вальберг — || 333.
Суворин Алексей Сергеевич — 323, || 47, 151.
Сытин Иван Дмитриевич — 119, 205, || 51, 119, 206.
Сютаев Василий Кириллович — 6, 127, 261, || 7, 263.
«Тайный порок», изд. «Посредник» — || 173.
Таиров Алексей Александрович — 273, 279, || 274.
Tаухниц Христиан-Бернгард (Tauchnitz) — 203, || 203.
Тверская губерния — 203.
Тверь — 49, 116, 270, 281, 316, 322.353
354 Телятинки, Тульской губ. — || 27, 267, 287.
Тертуллиан — 57 (цит.), || 58.
Терье Андре (Theuriet) — 130, || 131.
«Times», английская газета — || 46.
Тимирязев Климент Аркадьевич — 94, || 95.
Тишендорф Константин (von Tischendorf), «Novum Testaj mentum graece et latine» («Новый завет по-гречески и по-латыни») — 201, || 202.
Толстая Александра Андреевна — 93, 173, || 224, 225, 316, 317.
Толстая Мария Львовна — 7, 42, 88, 102, 103, 104, 105, 111, 119, 123, 144, 165, 183, 190, 203, 204, 214, 215, 232, 235, 249, 250, 254, 255, 267, 268, 279, 281, 289, 291, 296, 303, 304, 305, 322, || 7, 17, 18, 19, 24, 37, 49, 58, 70, 89, 91, 103, 104, 113, 115, 137, 143, 145, 152, 168, 170, 173, 175, 181, 182, 195, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 215, 218, 219, 220, 224, 227, 228, 233, 250, 256, 257, 267, 289, 290, 291, 300, 301, 307, 308, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338.
Толстая Мария Николаевна — 88, || 89, 187, 325.
Толстая Софья Андреевна — 23, 24, 69, 81, 102, 103, 104, 111, 133, 160, 175, 188, 190, 194, 214, 232, 235, 254, 255, 257, 267, 276, 279, 285, 286, 289, 301, 304, || XII, XIV, 5, 18, 57, 61, 91, 93, 95, 103, 104, 105, 161, 194, 200, 211, 215, 218, 233, 234, 235, 243, 249, 250, 252, 265, 269, 277, 280, 282, 283, 287, 288, 291, 296.
— «Дневники Софьи Андреевны Толстой» (ДСАТ) — || 200, 204, 211, 215, 233, 235, 243, 249, 252, 265, 277, 283, 290, 317.
Толстая Татьяна Львовна — 50, 165, 178, 210, 224, 232, 249, 257, 267, 300, 301, 316, || 18, 47, 108, 131, 174, 180, 187, 225, 233, 239, 240, 242, 250, 272, 317, 326, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338.
Толстая Т. Л., «Николай Николаевич Ге» — || 334.
«Толстовский ежегодник» — || 190.
Толстой Алексей Константинович — || 186.
Толстой Андрей Львович — 249, || 195, 250.
Толстой Дмитрий Андреевич — || 252.
Толстой Иван Львович — 249, || 250.
Толстой Илья Львович — 210, 249, 289, 304, || 188, 211.
Толстой Лев Львович — 175, 183, 210, 226, 249, 257, 300, 301, 304, || XXIII, 26, 27, 99, 183, 194, 195, 196, 233, 242, 243, 301, 305, 327, 328.
— «Любовь» — 195, 304, || XXIII, 196.
— «Монте-Кристо» — 195, 242, 304, || 196, 243.
Толстой Лев Николаевич:
— «Власть тьмы» — || 332.
— «Война и мир» — || XXI, 5.
— «Воскресение» — 6, 10, || V, VI, VIII, XII, XVI, 7, 10, 111, 141, 184, 278.
— «В чем моя вера?» — 51, 64, 85, 187, 261, 262, 319, || 45, 85, 188, 326.
— «Для чего люди одурманиваются?» — 75, 119, 129, 132, 144, 150, 204, 208, 227, 235, 252, 253, || 4, 76, 111, 119, 130, 132, 145, 151, 235, 253.
— Дневники и Записные книжки — || 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 60, 61, 63, 64, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 121, 123, 125, 128, 129, 132, 135, 137, 141, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 164, 166, 170, 175, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 216, 217, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 251, 252, 259, 263, 265, 267, 270, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 293, 296, 300, 303, 305, 307, 314, 315, 318, 325, 326, 327, 328, 329.
— «Дьявол» — 6, || 7.
— «Исследование догматического богословия» — 30, || 31.
— «Краткое изложение евангелия» — 64.
— «Крейцерова соната» — 5, 17, 18, 61, 62, 64, 72, 80, 81, 122, 123,354 355 156, 181, 285, 304, || V, 6, 18, 19, 48, 63, 73, 79, 80, 81, 83, 85, 89, 97, 110, 122, 123, 150, 182, 247, 254, 332.
— «Неделание» — || XIX.
— «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко», «Окто» (ПТСО) — || 58.
— «Об искусстве» — 219, 226, 255, 259.
— «Об отношениях между полами» — 172, 175, 177, 181, || 173, 176, 177, 182.
— «О жизни» — 67, 238, 239, || 68.
— «О науке и искусстве» — 228, 276, || 244, 252.
— «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», 1901 — || 19, 85, 168.
— «О смысле жизни. Мысли Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым», изд. «Свободное слово», 1903 — || 194, 207.
— «О соске» — || 188.
— «Отец Сергий» — 190, 268, || 111, 191, 278.
— «Первая ступень» — || 294.
— «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко», изд. «Книга» (ПТС) — || 90, 112, 149, 152, 164, 168, 171, 253, 267, 270, 311.
— «Письмо к издателям» («О самарском голоде») — || 322.
— «Плоды просвещения» — 6, 10, 17, 24, 59, 68, 78, 123, 144, || V, VIII, 7, 10, 18, 61, 68, 79, 111, 123, 145, 331, 332, 333.
— Полное собрание сочинений, изд. Сытина, М. 1913 — || XIV.
— Полное собрание сочинении. Юбилейное издание:
т. 26 — || 88.
т. 27 — || 4, 6, 7, 64, 73, 76, 119, 188.
т. 28. — || 114.
т. 30 — || 216, 227, 229, 251, 252, 256, 277.
т. 33 — || 7, 10, 141.
т. 47 — || XX, 134, 158, 225.
т. 50 — || 25, 43, 161, 227.
т. 51 — || 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 56, 60, 61, 63, 64, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 128, 129, 132, 135, 137, 141, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 169, 170, 175, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 325, 326, 327, 328.
т. 52 — || 137, 215, 216, 217, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 251, 252, 259, 263, 265, 267, 270, 272, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 293, 296, 300, 303, 305, 307, 314, 315, 318, 328, 329.
т. 59 — || 89, 250.
т. 61 — || 47, 61, 75.
т. 62 — || 94, 260.
т. 63 — || 5, 7, 11, 19, 26, 27, 29, 32, 41, 53, 63, 81, 95, 107, 110, 120, 124, 131, 152, 156, 158, 193, 202, 249, 283, 323.
т. 64 — || XVII, 4, 5, 8, 11, 16, 17, 29, 37, 39, 50, 55, 56, 91, 127, 152, 161, 197, 207, 244, 250, 293.
т. 66 — || V, VI, IX, XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 64, 93, 101, 177, 282, 318, 322.
т. 67 — || 5, 120. т. 83 — || 187, 218, 227.
т. 84 — || XII, XV, 283, 287.
т. 86 — || 90.
т. 87 — || 106, 284, 291.
— «По поводу дела Скублипской» — || 73.
— «Пора опомниться!» — || 4.
— «Послесловие к «Крейцеровой сонате» — 48, 55, 64, 65, 78, 80, 82, 85, 109, 122, 123, 144, 149, 157, 208, 245, 263, || 25, 37, 48, 56, 64, 80, 81, 83, 122, 124, 145.
— «Посмертные художественные произведения» — || 191.
— «Смерть Ивана Ильича» — || 332.
— «Соединение, перевод и исследования четырех евангелий» — 30, 37, 51, 64, || 31, 64, 202, 258.
— «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть тринадцатая. Произведения последних годов», М. 1890 —
81, 123, 276, 282, 285, || 81, 277.
— «Сочинения графа Л. Н. Толстого», М. 1911 — || 73, 125.
— «Спелые колосья. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого» — || 16, 24, 56, 246, 293.
— «Царство божие внутри вас» («Заключение к декларации Гаррисона и катехизису Баллу») — 166, 189, 190, 208, 209, 215, 235,355 356 242, 255, 268, 274, 279, 285, 286, 289, 291, 307, 319, 321, || 37, 111, 114, 152, 187, 190, 210, 215, 235, 279, 286, 291, 302, 308, 321.
— «Чем люди живы» — || 111.
Толстой Михаил Львович — 194, 249, || 195, 250.
«Толстой. Памятники творчества и жизни», сборники — || 156, 184.
Толстой Сергей Львович — 69, 133, 136, 176, || 40, 41, 46, 134, 136.
— «Очерки былого» — || 41, 46, 158.
Толстой Сергей Николаевич — 250, 268, || 249, 250, 265.
Трегубов Иван Михайлович — 92, || 27, 93.
Трейвос Калман Абрамович — || 336.
Тренов Дмитрий Федорович — || 267.
Третьяков Павел Михайлович — 145, || 11, 107, 108, 124, 125, 142.
Третьяков Сергей Михайлович — || 108.
Трещев Алексей Федотович — 155, || 156.
Тропова Прасковья Ивановна — || 336.
Тросна, Тульской губ. — 155.
«Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому». См. «Письма Толстого и к Толстому».
Трушева Лидия Юдифовна — || 169, 170.
Тула — 47, 186, 205, 315, 316, || 87, 271.
Тумаркин И. Б. — || 335.
Тумей А. (Toomey) — || 335.
Тургенев Иван Сергеевич — 260, || XXI.
— «Всезнайка» — 260, || 260.
— «Записки охотника» — || XXI.
Уивер (J. В. Weaver) — || 257, 258, 329.
Уильямс Хауард (Williams), «The Ethics of Diet» («Этика пищи») — 292, 321, || 294, 321, 322.
Уитмен Уот (Whitman) — 130, || XVIII, 131.
— «Leaves of Grass» («Листья травы») — 130, || 131.
Уорд Гомфри (Ward), «Robert Elsmere» («Роберт Эльсмер», «Отщепенец») — 184, || 185.
Урусов Сергей Семенович — 457, || 158.
Ушинский Константин Дмитриевич — || 158.
Файнерман Исаак Борисович (Тенеромо) — 48, 50, 52, 87, 88, 96, 278, 289, 293, || IX, 50, 52, 88, 89, 97, 201, 202, 272, 274, 279 293, 321.
— «Живые слова Л. Н. Толстого» — || 34.
— «Шпион» — || 34.
Фаресов А. И., «Против течений» — || 198, 230.
Фаррар Фредерик-Вильям (Farrar) — 176, || 177.
— «Life of Christ» («Жизнь Христа») — || 177.
«Vater und Tochter. Tolstois Briefwechsel mit seiner Tochter Marie» («Отец и дочь. Переписка Толстого с его дочерью Марией») — || 301.
Фейгин Филипп Исаакович — || 328.
Фет Афанасий Афанасьевич — 136, 301, || 136, 302.
— «Мои воспоминания» — || 322.
— «Мы встретились вновь после долгой разлуки» — || 136.
— «Я пришел к тебе с приветом» — || 136.
Фет Мария Петровна — 136, 301, || 136, 302.
Филиппушка — 155.
Философова Софья Алексеевна — 187, || 188.
Философовы — 303, 305, || 301, 305.
Финк Р. Ф. — || 265, 266.
Фишер А. — || 337.
Флобер Г., «La tentation de St.-Antoine» («Искушение св. Антония») — || 158.
Франс Анатоль — || XVIII.
Фрей Вильям (Владимир Константинович Гейнс) — 32, || 32.
Фролов В., «Художественная школа при главной типолитографии И. Д. Сытина» — || 206.
Харьков — 201, 203, 303, 315, 316.
Xатунка, Тульской губ. — || 145, 318.356
357 Хельчицкий Петр — 160, || 161.
— «Сеть веры» — 160, 214, || 161.
Хёнтингтон Джемс — || 330.
Xилков Борис Дмитриевич — 28, || 29.
Xилков Дмитрий Александрович — 91, 96, 97, 100, 225, 226, 232, 235, 248, 255, 257, 260, 268, 293, 308, 314, || 28, 22, 46, 63, 64, 76, 91, 92, 93, 134, 135, 136, 143, 220, 224, 230, 232, 233, 249, 293, 320, 321, 323, 328, 329.
Xилкова Юлия Петровна — 64, 92, 135, || 64.
Хилькевич Иосиф — || 336.
Xовен Николай — || 330.
Холлистер Алонзо (Hollister) — || 239, 240, 326.
Xоуэлз Уильям. См. Гоуэлс У.
Хохлов Галактион Иванович — 307, || 308.
Хохлов Николай Галактионович — || 269.
Хохлов Петр Галактионович — 209, 268, 308, 310, 317, 320, || 172, 269, 306, 307, 308, 309, 311, 321.
Хохловы — 268.
Хрипкова Надежда — || 328.
Цертелев Дмитрий Николаевич — 195, 284, || 196, 329.
Цюрих — 119.
«The Century illustrated Monthly Magazine», американский журнал — 138, || 141.
Черниговская губерния — 91.
«Черный передел» — || 267.
Чернышевский Н. Г., «Г. Чичерин как публицист» — || 134.
— Полное собрание сочинений — || XXII.
Чертков Владимир Владимирович — || 20.
Чертков Владимир Григорьевич — 22, 28, 48, 49, 55, 64, 80, 89, 102, 103, 116, 210, 211, 217, 219, 226, 255, 257, 265, 268, 270, 272, 284, 321, 337, || 3, 4, 5, 6, 13, 20, 22, 29, 31, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 64, 67, 68, 70, 78, 82, 83, 87, 90, 93, 96, 98, 100, 103, 106, 109, 112, 114, 119, 123, 127, 133, 145, 147, 150, 166, 171, 174, 181, 187, 194, 196, 200, 202, 212, 217, 220, 231, 232, 245, 251, 258, 263, 265, 266, 269, 271, 284, 291, 300, 306, 317, 321, 322, 326, 328.
Черткова Анна Константиновна — || 20.
Чертковы — 20, 56, 100, 106, 255, 260.
Чингис-хан — 133.
Чистяков Матвей Николаевич — 100, 106, || 96, 100, 107.
Чичерин Борис Николаевич — || XXIII, 133, 134.
— «Из моих воспоминаний. По поводу дневника Н. И. Кривцова» 133, || XXIII, 134.
— «Le système des éléments chimiques» («Система химических элементов») — 133, || 134.
Чичерина Анна Алексеевна — 133, || 134.
Чужбойский С. — || 326.
Шасслер М., «Kritische Geschichte der Aesthetik» («Критическая история эстетики») — 251, || 252.
Шевелево, Смоленской губ. — || 49, 97, 320.
Шекспир Вильям — || 5.
Шёлер P. (Schoeler) — || 336.
Шелерман — || 329.
Шенк Христина — || 333.
Шестериков С. П., «Письмо Л. Н. Толстого к Н. С. Лескову» — || 198.
Широв Зосима Семенович — 127, || 129.
Шмидт Мария Александровна — 232, 300, 301, || 126, 144, 145, 154, 155, 178, 179, 204, 234, 235,
303, 305.
Шобельская Е. — || 331.
Шопенгауэр Артур — 276, || 277.
— «Афоризмы о житейской мудрости», СПб. 1901 — || 277.
— «Parerga und Paralipomena» — 276, || 277.
Шоу Бернард — || XVIII.
Шредер Ф., «Толстовство» — || XVII.
Шульц — || 326.
Шюлер Вильям — || 335.
Эванс Фредерик (Ewans) — 274, || 230, 240, 242, 274, 308, 329.
— «The Country. A new Еarth and new Heavens» («Государство. Новая земля и новое небо») — || 242.
— «Universal Republic» («Всемирная республика») — || 242.357
358 Эзоп — 109, 152, || 110, 153.
— Собака и волк» — 109, || 110.
— «Собрание басен», «Библиотека греческих и римских классиков», СПб. 1890 — || 153.
Элпидин Михаил Константинович — 30, 300, || 31, 302.
Элькан Сергей Владимирович — || 335.
«Эмиль Липгард и К°», торговая фирма — 278, || 266.
Эпиктет — 152, || 326.
— «Епиктет. Основания стоицизма», «Библиотека греческих и римских классиков», СПб. 1890 — || 152.
Эрдели Иван Егорович — || 218.
Эртель Александр Иванович — || 4, 5, 6.
Юдин Дмитрий Алексеевич — || 287, 288, 317.
Юдин Иван Корнилович — || 336.
«Южный край», газета — || 285.
Якобсон Л. И. — || 335.
Якубовский Юрий Осипович — 146, || 146.
Ялта — 182, || 182.
Ярошенко Николай Александрович — 210, || 211.
— «Всюду жизнь», картина — 210, || 211.
— Портрет Н. Н. Ге — 210, || 211.
Ярышкин Александр Иванович — 205, || 205, 208, 209, 252, 253, 326, 331, 332.
Ясенки, Тульской губ. — 11, 117, 186, 283, 287, 289, 300, 316, || 283.
Ясная Поляна (Я. П.) — 23, 32, 47, 50, || IX, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 296, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 333.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСАТОВ
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
|
Алексееву В. А. |
1890 г. августа 27—28 |
134 |
152 |
|
|
Алексееву В. И. |
1890 г. февраля 10 |
14 |
18 |
|
|
» |
1890 г. мая 18—30 |
88 |
100 |
|
* |
» |
1890 г. июня 30 |
98 |
110 |
|
|
» |
1890 г. сентября 3 |
139 |
156 |
|
|
» |
1890 г. октября 23 |
156 |
174 |
|
|
» |
1890 г. декабря 13 |
189 |
202 |
|
|
» |
1891 г. мая 22 |
309 |
302 |
|
|
Алексееву П. С. |
1890 г. апреля 9 |
59 |
68 |
|
* |
Алехину А. В. |
1890 г. декабря 2 |
182 |
196 |
|
* |
» |
1891 г. мая 14 |
306 |
296 |
|
|
Алехину М. В. |
1891 г. мая 9 |
302 |
291 |
|
* |
Андерсену Ч. (Andersen Ch.) |
1890 г. августа 25 |
131 |
149 |
|
|
Анненковой Л. Ф. |
1890 г. июня 30 |
99 |
111 |
|
|
» |
1890 г. октября 17 |
152 |
171 |
|
|
» |
1891 г. марта 12 |
253 |
266 |
|
|
Аполлову А. И. |
1890 г. февраля 22 |
23 |
29 |
|
* |
Баллу A. (Ballou А.) |
1890 г. февраля 21—24 |
26 |
34 |
|
* |
» |
1890 г. июня 30 |
100 |
113 |
|
|
Баршевой О. А. |
1891 г. декабря 13 |
190 |
203 |
|
|
» |
1891 г. мая 22 |
310 |
303 |
|
* |
Бёрнс и К0 (Burnz and С0) |
1890 г. октября 31 |
162 |
181 |
|
* |
Бирюкову П. И. |
1890 г. января 17 |
5 |
6 |
|
|
» |
1890 г. февраля 14 |
17 |
20 |
|
|
» |
1890 г. марта 6—9 |
31 |
42 |
|
|
» |
1890 г. мая 21—22 |
83 |
96 |
|
* |
» |
1890 г. июня 2? |
89 |
102 |
|
* |
» |
1890 г. июня 2 |
90 |
102 |
|
* |
» |
1890 г. июня 11 |
92 |
103 |
|
|
» |
1890 г. июня 30 |
101 |
114 |
|
|
» |
1890 г. июля 11 |
113 |
127 |
|
|
Бирюкову П. И. и Попову Е. И. |
1890 г. августа 24 |
130 |
147 |
|
* |
Бирюкову П. И. |
1890 г. сентября 17 |
145 |
164 |
|
* |
» |
1890 г. ноября 17 |
173 |
190 |
|
* |
» |
1891 г. января 1 |
202 |
213 |
|
* |
» |
1891 г. января 7 |
204 |
214 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 21 |
241 |
254 |
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
* |
Бирюкову П. И. |
1891 г. февраля 23 |
243 |
258 |
|
|
» |
1891 г. марта 26 |
266 |
278 |
|
* |
» |
1891 г. мая 24 |
311 |
305 |
|
|
Буткевичу А. С. |
1890 г. апреля 30 |
73 |
86 |
|
* |
» |
1891 г. июня 4 |
316 |
311 |
|
|
Вагнеру Н. П. |
1890 г. марта 25 |
51 |
58 |
|
* |
Возницыной В. Н. |
1890 г. марта 20? |
39 |
47 |
|
|
Воробьеву Е. Н. |
1890 г. февраля 2 |
12 |
13 |
|
* |
Вяземскому К. А. |
1890 г. августа 8 |
122 |
137 |
|
|
Гайдебурову П. А. |
1890 г. ноября 14 |
166 |
184 |
|
|
Ганзен П. Г. и А. В. |
1890 г. апреля 25 |
68 |
78 |
|
|
Ге H. Н. (отцу) |
1890 г. января 20 |
8 |
11 |
|
|
» |
1890 г. января 21 |
9 |
11 |
|
|
» |
1890 г. февраля 10 |
16 |
19 |
|
* |
» |
1890 г. февраля 24—25 |
27 |
38 |
|
|
» |
1890 г. августа 22 |
128 |
145 |
|
|
» |
1890 г. декабря 18 |
196 |
209 |
|
|
» |
1891 г. января 4 |
203 |
213 |
|
* |
» |
1891 г. января 29 |
222 |
233 |
|
|
Ге H. Н. (сыну) |
1890 г. февраля 10 |
15 |
19 |
|
* |
» |
1890 г. февраля 10—18 |
19 |
22 |
|
* |
» |
1890 г. марта 20 |
40 |
48 |
|
|
» |
1890 г. марта 22 |
50 |
57 |
|
* |
» |
1890 г. апреля 9 |
60 |
69 |
|
* |
» |
1890 г. июня 30 |
102 |
115 |
|
* |
» |
1891 г. января 23 |
216 |
225 |
|
* |
» |
1891 г. января 28 |
221 |
232 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 22 |
242 |
256 |
|
* |
» |
1891 г. апреля 17 |
294 |
288 |
|
|
Ге H. Н. (отцу) и Ге H. Н. (сыну) |
1891 г. июня 22...29 |
327 |
322 |
|
|
Гецу Ф. Б. |
1890 г. мая 25—26 |
86 |
98 |
|
|
» |
1890 г. июня 30 |
103 |
117 |
|
|
» |
1890 г. ноября 21 |
174 |
191 |
|
|
» |
1891 г. февраля 11? |
233 |
247 |
|
* |
Гольцеву В. А. |
1890 г. июля 14—15? |
114 |
129 |
|
* |
» |
1890 г. июля 25 |
116 |
132 |
|
* |
» |
1890 г. августа 24—25 |
132 |
150 |
|
* |
» |
1890 г. декабря 14 |
191 |
204 |
|
* |
» |
1891 г. января 7 |
205 |
215 |
|
|
» |
1891 г. марта 25 |
263 |
275 |
|
* |
» |
1891 г. апреля 24—28 |
295 |
290 |
|
* |
Горбунову-Посадову И. И. |
1890 г. марта 20 |
48 |
55 |
|
* |
» |
1890 г. мая 27 |
87 |
100 |
|
* |
» |
1890 г. июня 11 |
93 |
105 |
|
* |
» |
1890 г. июня 30 |
104 |
119 |
|
* |
» |
1891 г. января 23 |
217 |
227 |
|
* |
» |
1891 г. апреля 4 |
277 |
283 |
|
|
Грибовскому В. М. |
1890 г. ноября 21 |
175 |
192 |
|
* |
Гринштайну К. А. |
1891 г. марта 19—24? |
261 |
272 |
|
* |
Губкиной А. С. |
1890 г. августа 29 |
135 |
153 |
|
|
Давыдову Н. В. |
1890 г. августа конец |
138 |
155 |
|
* |
» |
1890 г. октября 4—13 |
150 |
170 |
|
|
» |
1890 г. октября 31 — ноября начало |
165 |
184 |
|
* |
» |
1890 г. ноябрь — декабрь |
200 |
212 |
|
* |
» |
1890 г. конец? |
201 |
212 |
|
|
Диллону Э. М. (Dillon E. J.) и Соловьеву В. С. |
1890 г. марта 15 |
34 |
45 |
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
* |
Диллону Э. М. (Dillon E. J.) |
1890 г. апреля 29 |
70 |
82 |
|
* |
» |
1891 г. марта 23 |
260 |
271 |
|
* |
Дольнеру А. В. |
1890 г. марта 20 |
41 |
50 |
|
* |
» |
1890 г. декабря 17 |
192 |
204 |
|
* |
Дудченко М. С. |
1891 г. мая 28 |
315 |
309 |
|
* |
» |
1891 г. июня 7 |
318 |
316 |
|
* |
Дунаеву А. Н. |
1890 г. октября 17 |
153 |
171 |
|
* |
» |
1890 г. декабря 4—9 |
186 |
200 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 11 |
234 |
248 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 16 |
236 |
250 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 24 |
244 |
258 |
|
* |
» |
1891 г. июня 7 |
317 |
315 |
|
* |
» |
1891 г. июня 21? |
322 |
317 |
|
* |
Душкину Л. Е. |
1890 г. марта 15 |
32 |
43 |
|
* |
Ещенко Е. М. |
1890 г. ноября 21 |
176 |
193 |
|
* |
Желтову Ф. А. |
1890 г. апреля 8 |
55 |
64 |
|
|
» |
1890 г. апреля 29 |
71 |
83 |
|
|
Жемчужникову А. М. |
1890 г. ноября 14 |
168 |
186 |
|
|
Жиркевичу А. В. |
1890 г. июня 30 |
105 |
120 |
|
|
» |
1890 г. июля 28 |
117 |
132 |
|
|
» |
1890 г. ноября 2 |
163 |
182 |
|
|
» |
1891 г. февраля 3 |
225 |
236 |
|
* |
Журавову И. Г. |
1890 г. декабря 17 |
193 |
206 |
|
|
Засодимскому П. В. |
1891 г. января 13 |
210 |
219 |
|
* |
Зеленецкому А. А. |
1890 г. марта 15 |
33 |
43 |
|
* |
Золотареву В. П. |
1890 г. мая 21—22 |
84 |
97 |
|
* |
» |
1890 г. июня 30 |
106 |
121 |
|
* |
» |
1890 г. сентября 3 |
140 |
158 |
|
* |
» |
1891 г. марта 14 |
254 |
268 |
|
|
Зонову А. С. |
1890 г. апреля 8 |
56 |
65 |
|
* |
Калмыковой А. М. |
1890 г. августа 27 |
133 |
151 |
|
* |
» |
1890 г. августа 29 |
136 |
154 |
|
* |
» |
1890 г. сентября 23—24 |
148 |
168 |
|
* |
» |
1890 г. ноября 5 |
164 |
183 |
|
|
Кантеру Х.-В. Л. |
1890 г. апреля 9 |
61 |
70 |
|
|
Кэмпбеллу? Г. (Camp[belle?] Н.) |
1891 г. января 27— февраля 6 |
226 |
237 |
|
|
Кеннану Д. |
1890 г. августа 8 |
123 |
138 |
|
|
Кудрявцеву Д. Р. |
1891 г. февраля 10 |
232 |
245 |
|
* |
Кузминской Т. А. |
1891 г. января 9 |
209 |
218 |
|
* |
Куприянову А. П. |
1890 г. января 15 |
2 |
3 |
|
* |
де Лавелэ Э. (de Laveleye E.) |
1890 г. октября 30 |
160 |
179 |
|
* |
Лёве E. A. (von Loewe E. A.) |
1890 г. июня 30 |
107 |
122 |
|
* |
Лёвенфельду P. (Löwenfeld R.) |
1890 г. февраля 6 |
13 |
17 |
|
|
Лескову H. C. |
1890 г. декабря 3 |
183 |
198 |
|
|
» |
1891 г. января 21—22 |
215 |
225 |
|
|
Лисицыну M. M. |
1890 г. июня 18 |
97 |
109 |
|
|
» |
1891 г. января 8 |
208 |
217 |
|
|
» |
1891 г. января 27 |
219 |
229 |
|
|
» |
1891 г. марта 3 |
248 |
263 |
|
* |
Майнову В. В. |
1890 г. марта 3 |
29 |
38 |
|
|
Hеизвестному |
1890 г. марта 20 |
42 |
50 |
|
|
Неизвестному |
1890 г. марта 20 |
43 |
51 |
|
|
Неизвестному |
1890 г. марта 20 |
44 |
51 |
|
|
Неизвестному |
1890 г. март — апрель? |
72 |
85 |
|
|
Немолодышеву Н. А. |
1890 г. февраля 18 |
20 |
25 |
|
|
Никифорову Л. П. |
1890 г. июля 21—22 |
115 |
130 |
|
|
» |
1890 г. августа 9 |
124 |
142 |
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
|
Никифорову Л. П. |
1890 г. ноября 14 |
167 |
185 |
|
|
» |
1891 г. марта 20 |
258 |
270 |
|
|
» |
1891 г. марта 31 |
269 |
280 |
|
|
» |
1891 г. июня 24 |
326 |
322 |
|
|
Новоселову М. А. и Рахманову В. В. |
1890 г. марта 20? |
45 |
52 |
|
|
Оболенскому Л. Е. |
1890 г. марта 29—31? |
53 |
61 |
|
|
Пастухову А. А. |
1890 г. апреля 30 |
74 |
88 |
|
|
Погодину А. Д. |
1890 г. марта 20 |
46 |
57 |
|
|
Погодину А. Д. |
1890 г. апреля 8 |
57 |
67 |
|
|
Покровскому Е. А. |
1890 г. ноября 17 |
171 |
188 |
|
|
Полонскому Я. П. |
1891 г. февраля 26 |
245 |
259 |
|
|
Попову Е. И. |
1890 г. января 17 |
6 |
7 |
|
|
» |
1890 г. апреля 30 |
75 |
89 |
|
|
» |
1890 г. сентября 16 |
144 |
161 |
|
|
» |
1890 г. сентября 20 |
147 |
166 |
|
* |
» |
1890 г. октября 29 |
158 |
178 |
|
|
» |
1891 г. марта 19 |
257 |
269 |
|
|
» |
1891 г. апреля 24—28 |
296 |
291 |
|
* |
Попову П. В. |
1890 г. февраля 1 |
10 |
12 |
|
* |
Прозину В. В. |
1890 г. апреля 9 |
62 |
73 |
|
|
Рахманову В. В. |
1890 г. января 17 |
7 |
8 |
|
|
Рахманову В. В. и Новоселову М. А. |
1890 г. марта 20? |
45 |
52 |
|
|
Рахманову В. В. |
1891 г. февраля 28 |
246 |
260 |
|
|
» |
1891 г. мая 9 |
303 |
294 |
|
* |
Рачинскому С. А. |
1890 г. апреля 9 |
63 |
74 |
|
|
Рейнгардту Н. В. |
1890 г. февраля 22 |
24 |
32 |
|
|
Рубан-Щуровскому Г. С. |
1891 г. января 13 |
211 |
219 |
|
* |
Ругину И. Д. |
1890 г. апреля 30 |
76 |
90 |
|
|
Русанову Г. А. |
1890 г. апреля 27 |
69 |
80 |
|
|
» |
1890 г. июня 30 |
108 |
122 |
|
|
» |
1890 г. ноября 17 |
172 |
189 |
|
|
» |
1890 г. декабря 19 |
197 |
211 |
|
|
» |
1891 г. апреля 7 |
282 |
284 |
|
* |
Семенову С. Т. |
1890 г. марта 20 |
47 |
54 |
|
|
» |
1890 г. декабря 17 |
194 |
207 |
|
* |
» |
1891 г. марта 31 |
270 |
282 |
|
* |
» |
1891 г. апреля 10 |
288 |
287 |
|
* |
» |
1891 г. июня 21 |
323 |
319 |
|
* |
Симону Ф. П. |
1890 г. февраля 22 |
25 |
33 |
|
|
Соловьеву В. С. и Диллону Э. М. |
1890 г. марта 15 |
34 |
45 |
|
* |
Софронову С. П. |
1891 г. февраля 20 |
240 |
253 |
|
|
Стаховичу М. А. |
1891 г. апреля 1 |
272 |
283 |
|
|
Страхову H. Н. |
1890 г. мая 18 |
81 |
93 |
|
|
» |
1890 г. августа 4 |
121 |
136 |
|
|
» |
1890 г. сентября 3 |
141 |
160 |
|
|
» |
1890 г. октября 18 |
154 |
172 |
|
|
» |
1890 г. октября 27—28 |
157 |
176 |
|
|
» |
1890 г. декабря 3 |
184 |
199 |
|
|
» |
1891 г. января 7 |
206 |
216 |
|
|
» |
1891 г. января 25 |
218 |
228 |
|
|
» |
1891 г. февраля 6 |
230 |
243 |
|
|
» |
1891 г. февраля 17 |
238 |
251 |
|
|
» |
1891 г. марта 25 |
264 |
275 |
|
|
» |
1891 г. апреля 7 |
283 |
286 |
|
|
Суворину А. С. |
1890 г. марта 18 |
38 |
47 |
|
|
Толстой А. А. |
1891 г. января 20 |
214 |
224 |
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
|
Толстой A. A. |
1891 г. мая 31 или июня 7 |
319 |
316 |
|
|
Толстой M. Л. |
1891 г. мая 21 |
308 |
300 |
|
|
» |
1891 г. мая 27 |
314 |
308 |
|
|
Толстой C. A. |
1890 г. марта 20 |
49 |
— |
|
|
» |
1890 г. марта 27 |
52 |
— |
|
|
» |
1890 г. мая 4 или 5 |
79 |
— |
|
|
» |
1890 г. мая 6 |
80 |
— |
|
|
» |
1890 г. июня 4 |
91 |
— |
|
|
» |
1890 г. сентября 4 |
142 |
— |
|
|
» |
1890 г. сентября 6 |
143 |
— |
|
|
» |
1890 г. ноября 22 |
178 |
— |
|
|
» |
1890 г. ноября 23 |
179 |
— |
|
|
» |
1891 г. января 29 |
223 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 15 |
255 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 29 |
268 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 31 |
271 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 1 |
273 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 2 |
274 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 3 |
275 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 4 |
276 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 5 |
279 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 6 |
280 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 7 |
281 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 8 |
284 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 9 |
285 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 10 |
289 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 11 |
291 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 12 |
292 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 7 |
299 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 8 |
300 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 9 |
304 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 10 |
305 |
— |
|
|
Толстой Т. Л. |
1890 г. ноября 16 |
170 |
187 |
|
* |
Толстому Л. Л. |
1890 г. февраля 21 |
21 |
26 |
|
* |
» |
1890 г. ноября 30 |
180 |
194 |
|
* |
» |
1891 г. февраля 1—6 |
229 |
242 |
|
|
Толстому С. Л. |
1890 г. марта 8 |
30 |
40 |
|
|
» |
1890 г. марта 15 |
35 |
46 |
|
* |
Толстому С. Н. |
1891 г. февраля 12 |
235 |
249 |
|
* |
» |
1891 г. марта 3—5? |
249 |
265 |
|
|
Третьякову П. М. |
1890 г. июня 11? |
94 |
107 |
|
|
» |
1890 г. июня 11 |
95 |
108 |
|
|
» |
1890 г. июня 30 |
109 |
124 |
|
|
Трушевой Л. Ю. (?) |
1890 г. сентября 24 |
149 |
177 |
|
|
Файнерману И. Б. |
1890 г. декабря 12 |
187 |
201 |
|
|
» |
1891 г. марта 22—24 |
262 |
272 |
|
|
» |
1891 г. марта 26 |
267 |
279 |
|
* |
Финку Р. Ф. |
1891 г. марта 8—9 |
251 |
265 |
|
* |
Хилкову Д. А. |
1890 г. февраля 21 |
22 |
28 |
|
* |
» |
1890 г. марта 15 |
36 |
46 |
|
* |
» |
1890 г. апреля 6 |
54 |
63 |
|
|
» |
1890 г. апреля 9 |
64 |
76 |
|
* |
» |
1890 г. апреля 30 |
77 |
91 |
|
* |
» |
1890 г. августа 3? |
120 |
134 |
|
* |
» |
1890 г. августа 9 |
125 |
143 |
|
|
» |
1891 г. января 19 |
213 |
220 |
|
|
» |
1891 г. января 28 |
220 |
230 |
|
* |
» |
1891 г. июня 21? |
324 |
320 |
|
* |
» |
1891 г. июля 22...29 |
328 |
323 |
|
|
|
|
№ |
Стр. |
|
* |
Холлистеру A. (Hollister A.) |
1891 г. января 7 — февраля 6 |
227 |
239 |
|
* |
Хохлову П. Г. |
1891 г. мая 27 |
313 |
306 |
|
|
Черткову В. Г. |
1890 г. января 4—8 |
1 |
— |
|
|
» |
1890 г. января 15 |
3 |
— |
|
|
» |
1890 г. февраля 1 |
11 |
— |
|
|
» |
1890 г. февраля 17? |
18 |
— |
|
|
» |
1890 г. февраль |
28 |
— |
|
|
» |
1890 г. марта 15 |
37 |
— |
|
|
» |
1890 г. апреля 8 |
58 |
— |
|
|
» |
1890 г. апреля 18 |
65 |
— |
|
|
» |
1890 г. апреля 22 |
66 |
— |
|
|
» |
1890 г. апреля 24 |
67 |
— |
|
|
» |
1890 г. мая 4 |
78 |
— |
|
|
» |
1890 г. мая 20 |
82 |
— |
|
|
» |
1890 г. мая 23 |
85 |
— |
|
|
» |
1890 г. июня 6 |
92 |
— |
|
|
» |
1890 г. июня 11 |
97 |
— |
|
|
» |
1890 г. июля 1 |
111 |
— |
|
|
» |
1890 г. июля 9 |
112 |
— |
|
|
» |
1890 г. июля 28 |
118 |
— |
|
|
» |
1890 г. августа 10 |
127 |
— |
|
|
» |
1890 г. августа 22 |
129 |
— |
|
|
» |
1890 г. сентября 17 |
146 |
— |
|
|
» |
1890 г. октября 15? |
151 |
— |
|
|
» |
1890 г. октября 18 |
155 |
— |
|
|
» |
1890 г. октября 31 |
161 |
— |
|
|
» |
1890 г. ноября 14 |
169 |
— |
|
|
» |
1890 г. ноября 21 |
177 |
— |
|
|
» |
1890 г. ноября 30 |
181 |
— |
|
|
» |
1890 г. декабря 3 |
185 |
— |
|
|
» |
1890 г. декабря 12 |
188 |
— |
|
|
» |
1890 г. декабря 21 |
198 |
— |
|
|
» |
1890 г. декабря 31 |
199 |
— |
|
|
» |
1891 г. января 7 |
207 |
— |
|
|
» |
1891 г. января 15 |
212 |
— |
|
|
» |
1891 г. февраля 9 |
231 |
— |
|
|
» |
1891 г. февраля 16 |
237 |
— |
|
|
» |
1891 г. февраля 28 |
247 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 6 |
250 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 9 |
252 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 18—19 |
256 |
— |
|
|
» |
1891 г. марта 20 |
259 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 4 |
278 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 9 |
287 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 15 |
293 |
— |
|
|
» |
1891 г. апреля 29 |
297 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 6 |
298 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 8 |
301 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 15 |
307 |
— |
|
|
» |
1891 г. мая 24 |
312 |
— |
|
|
» |
1891 г. июня 14? |
321 |
— |
|
|
» |
1891 г. июня 23 |
325 |
— |
|
|
Чичерину Б. Н. |
1890 г. июля 31 |
119 |
133 |
|
|
Шмидт М. А. |
1890 г. июня 30 |
110 |
126 |
|
|
» |
1890 г. августа 9 |
126 |
144 |
|
|
» |
1890 г. августа 29 |
137 |
154 |
|
|
» |
1890 г. октября 29 |
159 |
178 |
|
|
Шмидт М. А. и Баршевой О. А. |
1891 г. февраля 1? |
224 |
234 |
|
|
» |
1891 г. мая 22 |
310 |
303 |
|
* |
Эвансу Ф. (Evans F.) |
1891 г. января 27 — февраля 6? |
228 |
240 |
|
|
Эртелю А. И. |
1890 г. января 15 |
4 |
4 |
|
* |
Юдину Д. А. |
1891 г. апреля 9 |
286 |
287 |
|
* |
» |
1891 г. апреля 10 |
290 |
288 |
|
* |
» |
1891 г. июня 12 |
320 |
317 |
|
* |
Ярышкину А. И. |
1890 г. декабря 17 |
195 |
208 |
|
|
» |
1891 г. февраля 18 |
239 |
252 |
СОДЕРЖАНИЕ
|
ПИСЬМА |
|||||
|
№ |
|
|
|
|
Стр. |
|
1 |
1890 г. |
января |
4—8? |
||
|
2 |
— |
» |
15 |
||
|
3 |
— |
» |
15 |
||
|
4 |
— |
» |
15 |
||
|
* 5 |
— |
» |
17 |
||
|
6 |
— |
» |
17 |
||
|
7 |
— |
» |
17 |
||
|
8 |
— |
» |
20 |
||
|
9 |
— |
» |
21 |
||
|
* 10 |
— |
февраля |
1 |
||
|
11 |
— |
» |
1 |
||
|
12 |
— |
» |
2 |
||
|
* 13 |
— |
» |
6 |
||
|
14 |
— |
» |
10 |
||
|
15 |
— |
» |
10 |
||
|
16 |
— |
» |
10 |
||
|
17 |
— |
» |
14 |
||
|
18 |
— |
» |
17 |
||
|
* 19 |
— |
» |
10—18 |
||
|
20 |
— |
» |
18 |
||
|
* 21 |
— |
» |
21 |
||
|
* 22 |
— |
» |
21 |
||
|
23 |
— |
» |
22 |
||
|
24 |
— |
» |
22 |
||
|
* 25 |
— |
» |
22 |
||
|
* 26 |
— |
» |
21—24 |
||
|
* 27 |
— |
» |
24—25 |
||
|
28 |
— |
» |
|
||
|
* 29 |
— |
марта |
3 |
||
|
30 |
— |
» |
8 |
||
|
* 31 |
— |
» |
6—9 |
||
|
* 32 |
— |
» |
15 |
||
|
* 33 |
— |
» |
15 |
||
|
34 |
— |
» |
15 |
||
|
№ |
|
|
|
|
Стр. |
|
35 |
1890 г. |
марта |
15 |
||
|
* 36 |
— |
» |
15 |
||
|
37 |
— |
» |
15 |
||
|
38 |
— |
» |
18 |
||
|
* 39 |
— |
» |
20? |
||
|
40 |
|
» |
20 |
||
|
* 41 |
— |
» |
20 |
||
|
42 |
— |
» |
20 |
||
|
43 |
— |
» |
20 |
||
|
44 |
— |
» |
20 |
||
|
45 |
— |
» |
20? |
||
|
46 |
— |
» |
20 |
||
|
47 |
— |
» |
20 |
||
|
* 48 |
— |
» |
20 |
||
|
49 |
— |
» |
20 |
||
|
* 50 |
— |
» |
22 |
||
|
51 |
— |
» |
25 |
||
|
52 |
— |
» |
21 |
||
|
53 |
— |
» |
29—31? |
||
|
* 54 |
— |
апреля |
6 |
||
|
* 55 |
— |
» |
8 |
||
|
56 |
— |
» |
8 |
||
|
57 |
— |
» |
8 |
||
|
58 |
— |
» |
8 |
||
|
59 |
— |
» |
9 |
||
|
* 60 |
— |
» |
9 |
||
|
61 |
— |
» |
9 |
||
|
62 |
— |
» |
9 |
||
|
63 |
— |
» |
9 |
||
|
64 |
— |
» |
9 |
||
|
65 |
— |
» |
18 |
||
|
66 |
— |
» |
22 |
||
|
67 |
— |
» |
24 |
||
|
68 |
— |
» |
25 |
||
|
69 |
— |
» |
27 |
||
|
* 70 |
— |
» |
29 |
||
|
71 |
— |
» |
29 |
||
|
72 |
— |
март — апрель? |
|||
|
73 |
— |
апреля |
30 |
||
|
74 |
— |
» |
30 |
||
|
* 75 |
— |
» |
30 |
||
|
* 76 |
— |
» |
30 |
||
|
77 |
— |
» |
30 |
||
|
78 |
— |
мая |
4 |
||
|
79 |
— |
» |
4 или 5 |
||
|
80 |
— |
» |
6 |
||
|
81 |
— |
» |
18 |
||
|
82 |
— |
» |
20 |
||
|
83 |
— |
» |
21—22 |
||
|
* 84 |
— |
» |
21—22 |
||
|
85 |
— |
» |
23 |
||
|
* 86 |
— |
» |
25—26 |
||
|
87 |
— |
» |
27 |
||
|
88 |
— |
» |
18—30 |
||
|
* 89 |
— |
июня |
2? |
||
|
* 90 |
— |
» |
2 |
||
|
91 |
— |
» |
4 |
||
|
№ |
|
|
|
|
Стр. |
|
* 92 |
1890 г. |
июня |
11 |
||
|
* 93 |
— |
» |
11 |
||
|
94 |
— |
» |
11 |
||
|
95 |
— |
» |
11? |
||
|
96 |
— |
» |
11 |
||
|
97 |
— |
» |
18 |
||
|
* 98 |
— |
» |
30 |
||
|
99 |
— |
» |
30 |
||
|
* 100 |
— |
» |
30 |
||
|
101 |
— |
» |
30 |
||
|
* 102 |
— |
» |
30 |
||
|
103 |
— |
» |
30 |
||
|
* 104 |
— |
» |
30 |
||
|
105 |
— |
» |
30 |
||
|
* 106 |
— |
» |
30 |
||
|
* 107 |
— |
» |
30 |
||
|
108 |
— |
» |
30 |
||
|
109 |
— |
» |
30 |
||
|
110 |
— |
» |
30 |
||
|
111 |
— |
июля |
1 |
||
|
112 |
— |
» |
9 |
||
|
113 |
— |
» |
11 |
||
|
* 114 |
— |
» |
14—15? |
||
|
115 |
— |
» |
21—22 |
||
|
* 116 |
— |
» |
25 |
||
|
117 |
— |
» |
28 |
||
|
118 |
— |
» |
28 |
||
|
119 |
— |
» |
31 |
||
|
* 120 |
— |
августа |
3 |
||
|
121 |
— |
» |
4 |
||
|
* 122 |
— |
» |
8 |
||
|
123 |
— |
» |
8 |
||
|
124 |
— |
» |
9 |
||
|
* 125 |
— |
» |
9 |
||
|
126 |
— |
» |
9 |
||
|
127 |
— |
» |
10 |
||
|
128 |
— |
» |
22 |
||
|
129 |
— |
» |
22 |
||
|
130 |
— |
» |
24 |
||
|
* 131 |
— |
» |
25 |
||
|
* 132 |
— |
» |
24—25 |
||
|
* 133 |
— |
» |
27 |
||
|
134 |
— |
» |
27—28 |
||
|
* 135 |
— |
» |
29 |
||
|
* 136 |
— |
» |
29 |
||
|
137 |
— |
» |
29 |
||
|
138 |
— |
» |
конец |
||
|
139 |
— |
сентября |
3 |
||
|
* 140 |
— |
» |
3 |
||
|
141 |
— |
» |
3 |
||
|
142 |
— |
» |
4 |
||
|
* 143 |
— |
» |
6 |
||
|
144 |
— |
» |
16 |
||
|
* 145 |
— |
» |
17 |
||
|
146 |
— |
» |
17 |
||
|
147 |
— |
» |
20 |
||
|
* 148 |
— |
» |
23—24 |
|
№ |
|
Стр. |
|||
|
149 |
1890 г. |
сентября |
24 |
||
|
* 150 |
— |
октября |
4—13 |
||
|
151 |
— |
» |
15? |
||
|
152 |
— |
» |
17 |
||
|
* 153 |
— |
» |
17 |
||
|
154 |
— |
» |
18 |
||
|
155 |
— |
» |
18 |
||
|
156 |
— |
» |
23 |
||
|
157 |
— |
» |
27—28 |
||
|
* 158 |
— |
» |
29 |
||
|
159 |
— |
» |
29 |
||
|
* 160 |
— |
» |
30 |
||
|
* 161 |
— |
» |
31 |
||
|
* 162 |
— |
» |
31 |
||
|
163 |
— |
ноябрь |
2 |
||
|
* 164 |
— |
» |
5 |
||
|
165 |
— |
октября 31— ноября начало |
|||
|
166 |
— |
ноября |
14 |
||
|
167 |
— |
» |
14 |
||
|
168 |
— |
» |
14 |
||
|
169 |
— |
» |
14 |
||
|
170 |
— |
» |
16 |
||
|
171 |
— |
» |
17 |
||
|
172 |
— |
» |
17 |
||
|
* 173 |
— |
» |
17 |
||
|
174 |
— |
» |
21 |
||
|
175 |
— |
» |
21 |
||
|
* 176 |
— |
» |
21 |
||
|
177 |
— |
» |
21 |
||
|
178 |
— |
» |
22 |
||
|
179 |
— |
» |
23 |
||
|
* 180 |
— |
» |
30 |
||
|
181 |
— |
» |
30 |
||
|
* 182 |
— |
декабря |
2 |
||
|
183 |
— |
» |
3 |
||
|
184 |
— |
» |
3 |
||
|
185 |
— |
» |
3 |
||
|
* 186 |
— |
» |
4—9 |
||
|
187 |
— |
» |
12 |
||
|
188 |
— |
» |
12 |
||
|
189 |
— |
» |
13 |
||
|
190 |
— |
» |
13 |
||
|
* 191 |
— |
» |
14 |
||
|
* 192 |
— |
» |
17 |
||
|
* 193 |
— |
» |
17 |
||
|
194 |
— |
» |
17 |
||
|
* 195 |
— |
» |
17 |
||
|
196 |
— |
» |
18 |
||
|
197 |
— |
» |
19 |
||
|
198 |
— |
» |
21 |
||
|
199 |
— |
» |
31 |
||
|
* 200 |
— |
ноябрь — декабрь |
|||
|
* 201 |
— |
конец? |
|
||
|
* 202 |
1891 г. |
января |
1 |
||
|
203 |
— |
» |
4 |
||
|
* 204 |
— |
» |
7 |
||
|
* 205 |
— |
» |
7 |
||
|
№ |
|
|
|
|
Стр. |
|
206 |
1891 г. |
января |
7 |
||
|
207 |
— |
» |
7 |
||
|
208 |
— |
» |
8 |
||
|
* 209 |
— |
» |
9 |
||
|
210 |
— |
» |
13 |
||
|
211 |
— |
» |
13 |
||
|
212 |
— |
» |
15 |
||
|
213 |
— |
» |
19 |
||
|
214 |
— |
» |
20 |
||
|
215 |
— |
» |
21—22 |
||
|
216 |
— |
» |
23 |
||
|
* 217 |
— |
» |
23 |
||
|
218 |
— |
» |
25 |
||
|
219 |
— |
» |
27 |
||
|
220 |
— |
» |
28 |
||
|
* 221 |
— |
» |
28 |
||
|
* 222 |
— |
» |
29 |
||
|
223 |
— |
» |
29 |
||
|
224 |
— |
февраля |
1? |
||
|
225 |
— |
» |
3 |
||
|
* 226 |
|
января 27 — февраля 6 |
|||
|
* 227 |
— |
января 27 — февраля 6? |
|||
|
* 228 |
|
января 27 — февраля 6? |
|||
|
* 229 |
— |
февраля |
1—6 |
||
|
230 |
— |
» |
6 |
||
|
231 |
— |
» |
9 |
||
|
232 |
— |
» |
10 |
||
|
233 |
— |
» |
11? |
||
|
* 234 |
— |
» |
11 |
||
|
* 235 |
— |
» |
12 |
||
|
* 236 |
— |
» |
16 |
||
|
237 |
— |
» |
16 |
||
|
238 |
— |
» |
17 |
||
|
239 |
— |
» |
18 |
||
|
* 240 |
— |
» |
20 |
||
|
* 241 |
— |
» |
21 |
||
|
* 242 |
—- |
» |
22 |
||
|
* 243 |
— |
» |
23 |
||
|
* 244 |
— |
» |
24 |
||
|
245 |
— |
» |
26 |
||
|
246 |
— |
» |
28 |
||
|
247 |
— |
» |
28 |
||
|
248 |
— |
марта |
3 |
||
|
* 249 |
— |
» |
3—5? |
||
|
250 |
— |
» |
5 |
||
|
* 251 |
— |
» |
8—9 |
||
|
252 |
— |
» |
9 |
||
|
253 |
— |
» |
12 |
||
|
* 254 |
— |
» |
14 |
||
|
255 |
— |
» |
15 |
||
|
256 |
— |
» |
18—19 |
||
|
257 |
— |
» |
19 |
||
|
258 |
— |
» |
20 |
||
|
259 |
— |
» |
20 |
||
|
* 260 |
— |
» |
23 |
||
|
№ |
|
|
|
|
Стр. |
|
* 261 |
1891 г. |
марта |
19—24? |
||
|
262 |
— |
» |
22—24 |
||
|
263 |
— |
» |
25 |
||
|
264 |
— |
» |
25 |
||
|
* 265 |
— |
» |
26 |
||
|
266 |
— |
» |
26 |
||
|
267 |
— |
» |
26 |
||
|
268 |
— |
» |
29 |
||
|
269 |
— |
» |
31 |
||
|
* 270 |
— |
» |
31 |
||
|
271 |
— |
» |
31 |
||
|
272 |
— |
апреля |
1 |
||
|
273 |
— |
» |
1 |
||
|
274 |
— |
» |
2 |
||
|
275 |
— |
» |
3 |
||
|
276 |
— |
» |
4 |
||
|
* 277 |
— |
» |
4 |
||
|
278 |
— |
» |
4 |
||
|
279 |
— |
» |
5 |
||
|
280 |
— |
» |
6 |
||
|
281 |
— |
» |
7 |
||
|
282 |
— |
» |
7 |
||
|
283 |
— |
» |
7 |
||
|
284 |
— |
» |
8 |
||
|
285 |
— |
» |
9 |
||
|
* 286 |
— |
» |
9 |
||
|
287 |
— |
» |
9 |
||
|
* 288 |
— |
» |
10 |
||
|
289 |
— |
» |
10 |
||
|
* 290 |
— |
» |
10 |
||
|
291 |
— |
» |
11 |
||
|
292 |
— |
» |
12 |
||
|
293 |
— |
» |
15 |
||
|
* 294 |
— |
» |
17 |
||
|
* 295 |
— |
» |
24—28 |
||
|
296 |
— |
» |
24—28 |
||
|
297 |
— |
» |
29 |
||
|
298 |
— |
мая |
6 |
||
|
299 |
— |
» |
7 |
||
|
300 |
— |
» |
8 |
||
|
301 |
— |
» |
8 |
||
|
302 |
— |
» |
9 |
||
|
303 |
— |
» |
9 |
||
|
304 |
— |
» |
9 |
||
|
305 |
— |
» |
10 |
||
|
* 306 |
— |
» |
14 |
||
|
307 |
— |
» |
15 |
||
|
308 |
— |
» |
21 |
||
|
309 |
— |
» |
22 |
||
|
310 |
— |
» |
22 |
||
|
* 311 |
— |
» |
24 |
||
|
312 |
— |
» |
24 |
||
|
* 313 |
— |
» |
27 |
||
|
314 |
— |
» |
27 |
||
|
* 315 |
— |
» |
28 |
||
|
* 316 |
— |
июня |
4 |
||
|
* 317 |
— |
» |
7 |
||
|
* 318 |
— |
» |
7 |
|
№ |
|
Стр. |
|||
|
319 |
1891 г. |
31 мая или 7 июня |
|||
|
* 320 |
— |
июня |
12 |
||
|
321 |
— |
» |
14? |
||
|
* 322 |
— |
» |
21? |
||
|
* 323 |
— |
» |
21 |
||
|
* 324 |
— |
» |
21? |
||
|
325 |
— |
» |
23 |
||
|
326 |
— |
» |
24 |
||
|
327 |
— |
» |
22...29 |
||
|
* 328 |
— |
» |
22...29 |
||
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Фототипия портрета Л. Н. Толстого. 1890 г. Между IV и V стр.
Автотипия письма Л. Н. Толстого к Н. С. Лескову от 3 декабря 1890 г. Между 200 и 201 стр.
Настоящее юбилейное издание первого полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатается на основании постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г., 8 августа 1934 г. и 27 августа 1939 г.
Редактор Н. С. Родионов. Технический редактор Л. Сутина Корректор А. Кашин
Подписано к печати 2/VII-53 г. А-03611. Тираж 5000. Бумага 68×100 = 12,63 бум. л. Печатных листов 31,05. Уч.-изд. л. 23,47+ +3 вкл. =23,65. Зак. № 127. Цена 18 р.
2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполттграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
|
Стр. |
Строка |
Напечатано |
Следует |
|
V |
16 св. |
всё хотят его |
всё его хотят |
|
» |
7 сн. |
одурять, грабить |
одурять его, грабить |
|
IX |
сноска 2 |
Там же |
Том 66 |
|
XII |
12 сн. |
идет непрестанный |
идет везде непрестанный |
|
XV |
6 св. |
в чем вся жизнь их обвиняет |
в чем не я, а вся жизнь их обвиняет |
|
XX |
15 сн. |
11 июня |
14 июня |
|
XXI |
10 св. |
«с 11-ти лет |
«с 14-ти лет |
|
156 |
12 сн. |
по моим наблюдением |
по моим наблюдениям |
|
374 |
6 св. |
1952 |
1925 |
Кроме того, в предисловии к шестьдесят пятому и шестьдесят шестому томам на стр. VI, VIII, IX, XIX и XXIII при ссылках на том 65 в подстрочных сносках ошибочно даны цифры с превышением на восемь страниц.
Примечания
ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОМУ И ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОМУ ТОМАМ
I
1
Т. 66, стр. 204.
2
Т. 65, стр. 146.
3
Там же, стр. 38.
4
Т. 66, стр. 280.
5
В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 31—32.
6
В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 183.
7
Там же, т. 16, стр. 302.
8
Т. 65, стр. 14—15.
9
В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 183.
10
Т. 65, стр. 47.
11
Там же, стр. 239, 241.
II
12
В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 300.
13
Там же, стр. 301.
14
Т. 66, стр. 11.
15
Там же, стр. 81—82.
16
Там же, стр. 143.
17
Там же, стр. 149.
18
Там же, стр. 198.
19
Т. 66, стр. 182—183.
20
Т. 84, стр. 160.
21
Т. 66, стр. 378.
22
Там же, стр. 342.
23
Там же, стр. 206.
24
Л. H. Толстой, Полн. собр. соч., изд. Сытина, т. XVIII, М. 1913, стр. 57.
25
В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 66—67.
26
Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, M.-Л. 1936, стр. 465.
27
Т. 84, стр. 128.
28
См. Альберт Мальц, Избранное, М. 1951, стр. 552.
III
29
Ромэн Роллан, Собр. соч., т. XIV, Л. 1933, стр. 201.
30
См. в т. 64.
31
Т. 66, стр. 67—68.
32
Т. 65, стр. 138.
33
Т. 66, стр. 45.
34
Т. 66, стр. 358.
35
Л. H. Толстой, Полн. собр. соч., изд. Сытина, т. XVIII, М. 1913, стр. 117 и 129.
36
Т. 65, стр. 107.
37
И. Сталин, Сочинения, т. 6. стр. 76
IV
38
Т. 66, стр. 67—68.
39
Т. 47, стр. 82.
40
Т. 66, стр. 409.
41
Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М. 1928, т. IV, стр. 682.
42
Т. 66, стр. 254.
43
М. Горький, Собр. соч., т. 14, М. 1951, стр. 264.
44
Т. 66, стр. 445.
45
Т. 65, стр. 141.
46
Там же, стр. 203.
47
Т. 66, стр. 120.
48
Т. 65, стр. 128.